16+

Зарегистрировано – 123 599Зрителей: 66 663
Авторов: 56 936
On-line – 23 214Зрителей: 4602
Авторов: 18612
Загружено работ – 2 127 043
Авторов: 56 936
On-line – 23 214Зрителей: 4602
Авторов: 18612
Загружено работ – 2 127 043
Социальная сеть для творческих людей
Несущие свой крест (рассказы)
Пред. |
Просмотр работы: |
След. |

Борис ПАХОМОВ
Несущие свой крест...
(Повести и рассказы)
Кишинёв - 2005
CZU 821.161.1(478)-1
П - 8
Несущие свой крест, Борис ПАХОМОВ, Grafic - Design, 2005 г., Кишинев, (проза), 244 стр.
Представляемый читателю сборник повестей и рассказов - это раздумья поэта и прозаика Бориса Пахомова о прожитом и пережитом, о нелёгких военных и послевоенных годах, о не простой современной жизни, о судьбах людей целой эпохи, охватывающей период с 1943 года до наших дней. Сегодня, когда серьёзная глубокая литература в жизни общества находится далеко не на переднем плане, такие книги способны пробудить к ней новый интерес.
Книга Бориса Пахомова интересна, актуальна, с юмором.
--------------------------------------
Редактор: Дмитрий Николаев, чл. СП России
Составитель: Алла Коркина, чл. СП Молдовы
Набор, верстка: Евгений Лукьянчук.
Descriеrea CIP a Camerei Na?ionale a Car?ii
ПАХОМОВ, Борис
Несущие свой крест: повести и рассказы \ Борис Пахомов.-.Ch.: Grafic - Design, 2005.- 244 p.
ISBN N 9975-9758-8-9
100 ex.
821.161.1(478)-1
No Б.Пахомов
ISBN 9975-9758-8-9
Тимка
"Прощание славянки "
Всю ночь мама и дядя Ваня о чем-то усиленно шушукались за занавеской. Может и не совсем всю-всю ночь. Тимка точно не знает, потому что он, в конце концов, заснул и ему приснилось, что наконец-то к ним с фронта, где он бил фашистов, приехал отец, весь в орденах, в синей с красным околышем фуражке и с пистолетом в желтой кожаной кобуре. На одной и на другой руке отца красовались немецкие трофейные часы, похожие своим лучистым блеском на те, на которых на прошлой неделе подорвался тетинастин Колька. Тогда они втроем, Тимка, Колька и Витек, пошли в горы за каштанами и уже почти углубились в лес, когда вдруг увидели на кусте бузины у поворота неширокой тропы, по которой они шли гуськом, что-то лучистоблестящее. Колька, шедший первым, с криком "Гля, ребя, часы!" рванулся вперед и добежав до куста, радостно схватил добычу... Тимка помнит только, что его вдруг сбило с ног и бросило на разросшийся дикий орешник, позади него стоявший стеной. Когда же Тимка пришел в себя, так и не успев испугаться, то почувствовал, что сильно пахло чем-то горелым. Горько горелым. Эта горечь забилась ему в нос и в рот и заставляла надсадно кашлять. Еле поднявшись тогда на ноги, Тимка, шатаясь, сделал несколько шагов в ту сторону, откуда только что кричал Колька. И тут же его, Тимку, стошнило: он увидел белобрысый колькин затылок. Голова Кольки застряла в стене орешника, будто ее кто-то только что туда приладил, а тело... Тела не было! В нескольких метрах левее того, что осталось от Кольки, на боку лежал Витек, белый, как полотно. Когда же Тимка, наконец, добрался до него, то увидел, что Витек мертв: у него была оторвана по самое плечо рука, а на животе - вся рубаха в крови. Вот они какие часики-то немецкие! Когда Тимка увидел отца с часами, да еще и на обеих руках, он в ужасе так заорал, что тут же проснулся. И в душе обрадовался, что удалось проснуться и тем самым остаться в живых... А отец? Где-то он сейчас? На тимкины вопросы об отце мама отводила глаза в сторону и односложно буркала:
- Воюет! Чего ему сделается! - и сразу находила Тимке какое-нибудь занятие. Тимка недоумевал: "Чего это она так сердится?" и начинал приставать с расспросами об отце к дяде Ване. Дядя Ваня солидно поправлял свою черную морскую фуражку с блестящей кокардой посередине околыша, фуражку, с которой он расставался разве только в постели, и принимался объяснять Тимке, что когда война кончится, все разойдутся по домам.
- И отец мой приедет? - назойливо допытывался Тимка.
- Приедет, а то как же, - подтверждал спокойно дядя Ваня.
- А вы куда поедете? - не унимался Тимка.
- Я погребу к себе на родину. В Питер. Сеструхи мои там, Лида и Шура, остались. Должно быть живы. Так думаю. - И дядя Ваня, как обычно, начинал рассказывать, какой это славный город Питер, сколько там всякого-разного, интересного.
- А Вовка как, братан мой? Он же ваш сын? Или как? Его куда?
- Об этом мамка твоя лучше нас с тобой знает, - быстро закруглялся сильно разговорчивый до этого момента дядя Ваня и уходил вразвалочку куда-нибудь по очень срочным делам, подметая весь путь своего следования широченными морскими клешами.
... Бабушка, кровать которой стояла впритык к тимкиному топчанчику, глухо храпела и временами что-то жевала во сне. А за занавеской, как и с самого вечера, Тимка снова услыхал быстрый настойчивый шепот матери. Разобрать ничего было нельзя, но шепот был настолько громким и напористым, что Тимке показалось, что мама вот-вот заругается в голос. Наконец, словно отбиваясь, что-то в ответ пробурчал дядя Ваня, потом опять зашептала мама, но шептала уже спокойнее, тише. Потом оба стихли и долго ворочались, и мама иногда стонала. Старая бабушкина кровать, на которой когда-то спал бабушкин брат, покойный дед Лукич, скрипела и скрипела.
- Уж лучше бы они шушукались! - с досадой думал Тимка. - Такущий скрип! Всех клопов перебудят! Чего бы я так ворочался и стонал! - Он недовольно повернулся на бок и стал бесцельно смотреть в темноту. Бабушка храпела. Наконец, за занавеской скрип прекратился и оттуда опять послышался глухой шепот...
Утром Тимку разбудила бабушка. Солнце уже вовсю било в открытое настежь окно. Откуда-то сверху, наверно с раскидистой ивы, росшей чуть в стороне от окна, слышался встревоженный стрекот беспокойной сороки. Докукарекивал свое бабушкин петух Серьга, самый заядлый и драчливый петух из всех петухов их поселка: никто из чужих не мог самовольно войти в бабушкин двор. А если кто-то нарушал петушиное табу, то незамедлительно подвергался такому злому нападению Серьги, что не успевал ничем от него отбиться и, поверженный, со срамом покидал бабушкин двор.
- Вставай, унучек, вставай! - бабушка сидела около тимкиной головы и нежно ворошила его волосы. - Вставай, маленький! Все давно порасходились, а у нас с тобой сегодня большие хлопоты. Большие, унучек, ой какие большие! - Тимка нежился, как кот на солнышке, под доброй бабушкиной рукой и только что не мурлыкал. Но не вставал. Даже снова закрыл глаза да так и лежал, нежась. А когда случайно открыл, то его негу, как рукой сняло: на него глядели другие бабушкины глаза. Не те, которые вслед ее приговорам излучали, как всегда, бездонную нежность к нему, маленькому, излучали добрую заботу обо всем , что хоть как-то было связано с ним, с Тимкой. И не те, которые он привык видеть, когда бабушка вела себя с ним ровно и даже равно. Тимка глянул на бабушку неожиданно для нее, глянул, когда не должен был глядеть. И поэтому бабушка не успела спрятать от него эти глаза. В них Тимка увидел что-то такое, что сильно встревожило его маленькую душу, чего он никогда прежде в бабушкиных глазах не видывал. В этих глазах было что-то про него, Тимку, что-то для него неизвестное, скорее плохое, чем доброе, может быть даже дурное и опасное.
- Бабушка! - Почему-то шепотом проговорил Тимка, - бабушка! Ты что-то про меня знаешь? - не прошептал даже, а будто душою прокричал, потому что бабушка сильно вздрогнула и, как от кипятка, быстро отдернула свою руку от его головы.
- С чего это ты взял, Тима? - через мгновение ровно ответила она, глядя на Тимку уже теми, старыми, глазами. - С чего ты взял? - поспешила повторить она снова. - Вставай, вставай! Заспался, поди! Оттого и выдумываешь! - и слегка нежно потянула его за вихры. Тимка не поверил ей и продолжал с тревогой смотреть на нее. - Ты вот что, Тима, - вдруг посерьезнела бабушка, - ты сядь-ка да послушай, что я тебе скажу. - Тимка, давно уже внутренне напрягшийся, теперь сразу покрылся весь гусиной кожей.
- А где мама? - вдруг заплакал он, поднимаясь, - где мама?
- Ах ты мой маленький, несчастный ты мой унучек! - совершенно неожиданно для начавшего реветь Тимки запричитала, не выдержав напряжения, бабушка, и прижала его лицо к своей теплой, пахнущей жареными семечками подсолнуха груди. - Ах ты моя сиротинушка! - Тимка, начавший было при этом громче реветь, оказавшись за бабушкиными маленькими руками, почувствовал себя очень неловко как мужчина и стал, сопя, выбираться из-под рук. Бабушка тут же отпустила его и принялась краешком своего пестрого платка, который сбился у нее куда-то назад и набок, утирать свои сильно повлажневшие жалостливые глаза. Тимка же слез не стал утирать, а сразу вытащил из-под трусиков пришитый мамой к майке кусок белой материи - носовой платок - и принялся усиленно сморкаться в него, решительно надувая при этом свои мокрые щечки.
- Ты уже совсем большой мальчик, Тима, - продолжая утирать глаза, но пряча их от внимательного тимкиного взгляда, вздохнула бабушка. - Вот скоро в школу пойдешь. Уже почти мужчина. А мама твоя - женщина. Женщины - слабые.
- А ты, - перебил Тимка, - слабая?
- Я - старая, - махнула рукой бабушка. - Обо мне речи нет.
- Ну и что? - набычился Тимка.
- А то, - бабушка, наконец, перестала тереть глаза и прямо пристально посмотрела на Тимку: - Жалеть мать надо! Жа-леть! - по слогам добавила она для пущей уверенности. - Вовка, вон, совсем маленький. С ним, знаешь, сколько здоровья надо? - Тимка молчал. - Во! - продолжала бабушка. - Да дядя этот, Иван, сам видишь, выпивает. Да и кулакам волю, бывает, дает. Не секрет. А матери каково? - Тимка молчал. - Ты, это, Тима, меня понимаешь? - заглянула ему в глаза бабушка, - понимаешь?
Тимка молчал. Да нет же, не молчал он! Он только вслух ничего не говорил, а про себя он еще как разговаривал! Почему, молчал он, этот дядька Ванька у них живет? Вот папа приедет, так он его выгонит! Хоть дядька Ванька и моряк, но все равно папа его победит! Это наш дом, не его! А он, когда в первый день пришел к нам жить, сразу напился пьяный и бил маму и бабушку. И его, Тимку, бросившегося их защищать, стукнул кулаком по голове! А мама потом все плакала и уговаривала бабушку: мол, Ваня - хороший! Он, мол, только сильно контуженный на войне! Вот пусть бы ехал немцев бить, а не нас, раз он такой контуженный! Сами, как только спать ложатся, всегда шепчутся и ворочаются, сколько хотят! Хоть всю ночь! А он, Тимка, чуть шевельнись, сразу все недовольны! Мама тут же кричит: "Сколько ты можешь там вертеться! Сколько ты можешь там вертеться! Спать немедленно! Спать немедленно!" Даже бабушку разбуживает! А когда бабушка однажды заступилась за него, так и ей досталось от мамы: "Он мне жить не дает! - кричала она бабушке из-за занавески, - а ты до такого возраста дожила, а не понимаешь простых вещей!" Не понимает! Да бабушка, может, больше их всех понимает! Потому и добрая! Ночью люди спят, а не живут! Придираются! Сами мне спать мешают каждую ночь!
- Тима, унучек, да ты меня слышишь ли! - бабушка слегка потрясла рукой тимкину голову, - Тима!
- А мама - добрая? - вдруг вслух спросил Тимка. - Бабушка!
- Ты что это, Тима, - закрестилась бабушка, - в своем ли ты уме?
- Мама - добрая? - твердо повторил свой вопрос Тимка, не мигая, глядя на растерявшуюся бабушку.
- Тима, унучек, - бабушка вновь прижала к своей груди тимкину головку и поцеловала несколько раз его пахнущие постелью волосы. - Ну какой же ей быть? Ах, ты, Господи ты, Боже мой! Да разве ж бывают плохие матери? Тяжело ей, маленький, ох, как тяжело! Вот и срывается она. А тебя она любит! Любит! - и бабушка заплакала. Заплакала сначала тихо, по-старушечьи, а потом вдруг громко заголосила, как по покойнику, будто в одночасье лопнула в ней какая-то живая пружина, не сдержавшая всего накопленного и пережитого за долгие и нелегкие ее годы...
В полдень в их доме появился тимкин отец. Он выглядел почти таким, каким снился Тимке ночью, только наград было маловато - всего один орден и три медали, да на руках не блестели трофейные немецкие часы. Отец выглядел очень усталым и сильно хромал на правую ногу. Тимка узнал его сразу, как только отец подошел к плетню и принялся открывать калитку, чтобы войти во двор. Тимка с бабушкой в это время кормили поросенка в другом углу двора и были неожиданно оторваны от своего занятия страшным шумом, поднятым петухом Серьгой, который истошно заорал, устрашающе захлопал мощными рыжебелыми крыльями и стрелой понесся к калитке. Только что спокойно клевавшие вместе с ним рассыпанную бабушкой кукурузу его подружки, тоже все переполошились, устроили невообразимый гвалт и бросились наутек кто куда.
- Папа! Папа приехал! Я знал! Я знал! - обернулся на шум и запрыгал от внезапного счастья Тимка. Он тут же рванулся, было, к калитке навстречу отцу, но бабушка, охнув, быстро поймала его за руку и просяще шепнула на ухо:
-- Про дядю-то Ивана не сказывай ему, унучек! Будто и не живет он у нас вовсе. Хорошо?
-- А Вовка? - тоже шепотом, готовый вот-вот оторваться, спросил Тимка.
-- И про Вовку не сказывай, - быстро ответила бабушка. - Они с дядей Иваном в эти дни будут жить в другом месте. Ну, беги! Встречай отца! - И отпустила его, словно воробышка, на волю, а сама бросилась отбивать тимкиного отца от вконец озверевшего петуха.
За те три дня, что отец находился дома, Тимке так и не удалось насладиться его присутствием. Правда, в первый день сразу после появления отца он немного все-таки посидел у отца на коленях, потрогал, рассмотрел попристальнее, повертел в руках его награды, порасспросил о нашивках на кителе возле ордена ("Ранения, - пояснил отец"), о немцах, об атаках, вообще о войне, похвастался, как они с пацанами подрывали патроны, которые находили в изобилии в лесу, густо окружавшем их небольшой поселок со всех сторон, погоревал о Кольке с Витьком, убитых, как и их отцы. Да тогда же отец дал ему выстрелить в огороде из своего ТТ. Пистолет был такой тяжелый, так что Тимка держал его за рукоятку двумя руками, а когда грохнул выстрел, он так дернулся в руках, что Тимка едва устоял на ногах. Отец громко расхохотался, забрал у Тимки пистолет, вставил в него обойму и вложил пистолет в кобуру. Потом, уже без улыбки, произнес, глядя на Тимку:
- Это очень плохая игрушка, сынок. - И добавил: - вредная.
В остальное время Тимка отца почти не видел. В первый день, как только они с бабушкой пришли за мамой на работу сказать, что приехал отец, мама их сразу послала на другой конец поселка за какими-то вещами. У людей, к которым они с бабушкой пришли, этих вещей не оказалось. Зато хозяйка и бабушка о чем-то долго-долго шептались, а Тимку отослали побегать с ребятишками, которых у хозяйки было трое, и все - постарше Тимки. Вернулись домой Тимка с бабушкой уже поздно вечером, когда отец и мама уже давно спали. Бабушка впотьмах постелила себе и Тимке постели, и он, не ужинавши, молча лег спать. Бабушка села к нему на топчанчик, наклонилась и поцеловала его в уже закрытые глаза. Так и сидела, пока он не уснул. На другой день мама не пошла на работу, а их с бабушкой сразу же после завтрака отправила в соседний поселок за двенадцать километров выменять на рынке мыла. Перед уходом бабушка, ни слова не говоря, полезла в свой старенький обшарпаный комод, достала из него какие-то вещи, сунула их в корзинку и, взявши Тимку за руку, потянула его за собой во двор. Тимка было заикнулся, что хочет пойти с папой "в город", так у них в поселке говорили, когда случалось идти в центр, но, увидев, что отец, отвернувшись, смотрит в окно, промолчал и понуро потащился вслед за бабушкой.
Пришли домой они, как и в первый день, лишь к вечеру. Усталые и без мыла. Ничего выменять не удалось. Мамы и отца дома не было. Бабушка, чем пришлось, быстро накормила Тимку и уложила его в постель. Проснулся Тимка только утром. Дома находился только один отец. Он сидел хмурый у окна перед небольшим потрескавшимся зеркальцем с густо намыленным подбородком. Брился. Потом они с отцом молча позавтракали. Наконец, Тимка не выдержал и спросил участливо:
- Нога до сих пор ноет?
- Нога, - односложно ответил отец. Из репродуктора-тарелки, висевшего над столом, за которым они сидели, с хрипом вырывалась бодрая, но чем-то тревожная музыка. Тимка, никогда до этого не обращавший никакого внимания на все, что выдавала тарелка, вдруг перестал жевать и тихо спросил отца, показывая одними глазами на репродуктор:
- Что это, пап? Что играют?
- "Прощание славянки", - глядя мимо Тимки, ответил отец. И совсем уже отведя глаза в сторону, тихо, как бы про себя, добавил: - Прощание играют, сынок. Прощание.
Потом уже во дворе он дал Тимке еще раз выстрелить из пистолета, теперь уже держа его руки в своих, а после этого прощального, как потом оказалось, салюта, быстро зашел в дом, и почти тут же вышел, пряча что-то , завернутое в газету, под мышкой.
-Я скоро приду, Тима, - ответил он на вопросительный тимкин взгляд и, сильно прихрамывая, как-то боком, направился к калитке...
Больше Тимка никогда не видел своего отца...
Кишинев, 1981 г.
Ах ты, жизнь!
Ранним утром Тимку разбудил ужасный крик, почти вопль, непрошенно ворвавшийся в открытую на ночь форточку. Разбуженное, очевидно, этим криком солнышко, недовольно водило слабым желтокрасным лучиком по стыку двери и потолка напротив Тимкиного топчанчика, прилепленного сбоку от окна к горбатой, выложенной слабой женской рукой, стенке, которую бабушка называла "штопка": два года назад во дворе разорвался снаряд (конечно "немецкий", потому что наши снаряды так подло не поступали). При этом предшественницу "штопки " почти всю высадило взрывной волной, так что бабушка, едва выбравшись из погреба, где она всегда спасалась во время бомбежек или обстрелов, и поминая отнюдь не блеклыми словами "наших сопляков, которые пуляют по хатам с бабами заместо немца", тут же принялась штопать пострадавшую хатенку, грозившую вот-вот окончательно завалиться. Да...Крик был женский, визгливый, аж до хрипа. Ничего нельзя было разобрать. Бабушка и мать одновременно мигом подскочили со своих кроватей. Не остался лежать и Тимка.
- Никак похоронку Довганихе принесли, - на звук определила бабушка и начала быстро одеваться. - А ты, пострел, куда это заторопился? - догнал Тимку ее хрипловатый голос, когда тот полез под топчан за своим сандаликом, который вчера перед сном плохо снимался, из-за чего пришлось так дрыгнуть ногой, что сандалик, ударившись о стенку, залетел куда-то далеко под топчан.
- Я, бабушка, с тобой. Только погоди, вот найду сандаль, - натужно прохрипел Тимка из-под топчана.
- Ой, люди добрые! Ой убили! - вдруг совершенно отчетливо донеслось из открытой форточки. Бабушка уже выбегала, и Тимка рванулся за ней, как был: в штанишках, без майки и в одном сандалике.
- Корову выгони в стадо, Катя! - крикнула бабушка тимкиной матери уже на ходу.
Стояла теплая послевоенная весна. Неделю назад вся тимкина семья вот так же, но еще более ранним утром,была поднята на ноги. Только не голосившей, как сегодня, до мурашек по коже женщиной, а беспорядочной оружейной пальбой и сияньем разноцветных ракет в пробуждающемся беловаторозовом небе. Все повыскакивали во двор в чём успели. Стреляли и пускали ракеты недалеко от них, у пожарной части. В соседнем дворе, ухватившись за плетень и забросив подальше костыли, на своей единственной ноге уже прыгал и кричал "ура!" дядя Федя Пустоваров, а рядом, глядя на него, как на несмышленыша, жалеючи его и себя, плакала тетя Варя, жена дяди Федора.
- Победа, Лукьяновна, растак их мать! Победа! - воздевал к небу свои худые жилистые руки дядя Федя, завидев Тимку с матерью и с бабушкой. И затем снова и снова орал, закашливаясь, такое родное для всех слово.
Бабушка угадала: голосили у хаты Павлика Довганя. Несмотря на такую рань, народу набилось полон двор. На крыльце в ночной белой рубахе, словно святые мощи, молча стояла мать Павлика, белая, как простыня, босиком, прижимая к себе ревущую четырехлетнюю Нюрку. Сам Павлик находился чуть поотдаль. Видно было, что его колотила сильная дрожь. В руках он сжимал "погонялку" - толстый железный прут, изогнутый на конце буквой "П". Такими прутами детвора тимкиного поселка гоняла по улицам железные обручи из-под бочек. Но стенания исходили не от матери Павлика, а от толстой тетки Жилихи, которую удерживали под руки две ее крепкие дочки. Испуская истошные вопли, тетка Жилиха подгибала колени, пытаясь повалиться на землю, но дочки, словно две бетонные опоры, не позволяли ей этого и с равнодушным видом вновь ставили "маманю" на ноги.
- Воровка! - истошно вопила Жилиха, захлебываясь от слез и злобы, - воровка! Да чтоб дети твои всю жизнь видали столько, сколько ты, сучка безмужняя, оставила моим деткам! Да чтоб ты навек подавилась той грядкой лука, которую ты у меня украла-а-а! Да чтоб она тебе на том свете все время покоя не давала-а-а! Да чтоб мужик твой к тебе никогда не вернулся, будь ты трижды проклята-а-а! Ой, убила-а-а! Ой, оставила малых деток моих помирать голодной смертью-ю-ю! Ой, спасите, люди добрые-е-е!
На крики Жилихи все сбегались и сбегались перепуганные соседи, толком не понимая, что же произошло. А мать Павлика словно окаменела: неподвижно стояла на своем крыльце и смотрела молча куда-то поверх прибывающей и прибывающей толпы. На худой лошаденке прискакал милиционер, совсем молоденький парень. Привязав лошадь к плетню, он неуверенно расправил под ремнем неопределенного цвета мятую гимнастерку и осторожно вошел во двор. Толпа охотно расступилась, и он оказался прямо перед зависавшей на крепких руках своих дюжих дочек Жилихой. Увидав милиционера, Жилиха еще пуще заголосила.
-- Отпустите-ка мамашу! - обратился милиционер к дочкам.
Те, наконец, облегченно вздохнули и сразу разошлись в разные стороны. Жилиха, оказавшись без надежных опор, перестала заваливаться на землю и твердо встала на свои коротенькие крепкие ножки. Тут же замолчала и выжидающе смотрела на милиционера.
- В чем дело, гражданка! Объясните! - потребовал милиционер. - Только спокойно и без истерики!
- Вон, - кивком головы показала Жилиха на мать Павлика, размазывая слезы грязной ладонью по красному зареванному лицу. - Машка со своей оравой! Жрать им нечего, так они всю грядку лука у меня повыдергивали! Только повсходил! Только повсходил! И что же я теперь делать-то буду! - снова заголосила она, в отчаянии обхватив голову руками.
- Гражданка! Прекратите! - прикрикнул на нее милиционер. - Откудова это вы знаете, что она, - он указал на стоящую, как статуя, мать Павлика, - что она попортила ваш огород?
- Да! Почем ты знаешь? Отвечай! - тут же раздался чей-то громкий нетерпеливый голос. - Раскудахталася тута!
Толпа во дворе, до этого молча и угрюмо взиравшая на все происходящее, вдруг сразу загудела и задвигалась.
-Тихо, граждане, тихо! - повысил голос милиционер. - Прошу всех разойтися! Мешаете дознанию! Расходитеся!
Тут он расставил руки в стороны и пошел на толпу, пытаясь таким способом ее вытеснить со двора павликиного дома. Но никто даже бровью не повел: все продолжали недвижно стоять, зато загалдели еще пуще. Милиционер отошел назад к Жилихе, снял свою синюю фуражку, отер рукавом гимнастерки пот со лба и, снова надев фуражку, решительно поднял вверх руку:
- Граждане! Пока не уйдете со двора, я, граждане, дознание не начну! Прошу всех освободить двор!
Пока милиционер и толпа выясняли отношения, а Жилиха, глядя на милиционера, прикидывала, как же такой хлипкий пацанчик вернет ей грядку первосортного лука, который они с мужем именно сегодня собирались свезти на базар в город, никто и не заметил, как мать Павлика ушла в дом. Все опомнились только в тот момент, когда душераздирающий детский крик током ударил по всему живому. Воробьи, стайкой сидевшие на росшей в глубине двора старой-престарой алыче и яростно спорившие о чем-то между собой, от такого крика фонтанчиками брызнули в разные стороны.
- Мама! Мамочка! - обезумев, орала маленькая Нюрка, - мамочка!
Милиционер, а следом и все, кто топтался во дворе, бросились в хату. В дальней комнате, в петле, едва касаясь пальцами босых ног земляного пола, закатив глаза, хрипела мать Павлика. Веревка была наспех завязана одним концом за крюк, вбитый чуть повыше окна. Милиционер мгновенно, по-собачьи, прямо с порога прыгнул к окну в ноги матери и поднял ее на себе, сорвав при этом рукой петлю с ее шеи... Впопыхах мать положили здесь же на земляном полу. Милиционер уже не обращал внимания на людей, доотказа набившихся в хату, а стоя на коленях, пытался привести мать Павлика в чувство.
- Зря ты, парень, старался! - наконец с трудом прошептала мать. - Не жить мне больше после такого позора!
- Детей бы пожалела! - перебил ее милиционер, - что они без тебя! Перемрут! Мужик-то где? На фронте?
- Не жить мне больше! Ох не жить! - заплакала мать, и слезы сразу наполнили казавшиеся до этого бездонными огромные глазные впадины.
- Ну, будет, будет! - мягко тронул ее за плечо милиционер. - Так уж и не жить! Шут с ним, с этим луком-то! Наживешь - отдашь! Бывает! Война! - заключил он.
- Да не брала я энтот лук, будь он трижды проклят! - мать попыталась подняться, но милиционер ее придержал:
- Лежи, лежи! Отойди маленько. Не брала и хорошо. Разберемся.
- Не брала она, слышь! - вмешалась одна из находившихся тут же женщин. - Не могла она. Всю оккупацию бедовала с двумя ребятишками, но чужого - ни-ни. А находились, которые брали. Ой брали! - В комнате все сразу заговорили, завспоминали совсем-совсем недавнее. Тронули еще не зажившее, не затянувшееся, больное. И оттого эта толпа разнородных, чужих, случайных людей как-то сразу внутренне собралась, сплотилась одной общей бедой, одной общей ответственностью за все прошедшее, настоящее и будущее...
Раздался резкий стук в окно. Он был до того неожиданным и громким, что все галдевшие вдруг в момент смолкли на полуслове и повернулись на звук. За окном подавал какие-то знаки муж Жилихи. Его сначала толком никто не узнал: лицо было искажено то ли болью, то ли страхом, то ли стыдом, то ли всем одновременно. Было видно, что все случившееся в это утро, где-то глубоко перемешалось внутри этого человека, забродило и в одночасье проступило на его простом и добром лице. И каждая из простых человеческих слабостей по-своему запеклась только ей присущим узором. Милиционер быстро вскочил на ноги, но тут же, взяв себя в руки, спокойным шагом направился к выходу. Люди в комнате и у порога почтительно расступились, образовав неширокий коридор. Едва милиционер вступил в него, навстречу ему выскочил муж Жилихи.
- Я это! - закричал он, задыхаясь, - я! Я свез лук на базар! Не виновата она! - он бросился мимо милиционера к продолжавшей лежать на полу матери Павлика, опустился перед ней на колени и порывисто припал к ее груди:
- Прости нас, Мария! - послышалось сквозь приглушенные всхлипы. - Прости ты нам нашу глупость, прости Бога ради!
...Мать Павлика молча лежала, уставив, как в могилу, невидящий взгляд в потолок своей хаты. Из ее глаз, словно из двух родничков толчками выбивались чистые прозрачные слезинки. Они удивленно задерживались на длинных пушистых ресницах, а затем неохотно терялись в рассыпанных по всему зеленому земляному полу густых темных волосах. Рука ее нежно гладила повинную голову мужа Жилихи...
Ах ты, жизнь! Судьба людская!
И любовь, и боль, и плач!
Колеи не выбирая,
То бредешь, то мчишься вскачь!
Кишинев, 1982 г.
Кончалось лето
Тимка проснулся рано. Из-за двери, где спали родители, доносился храп матери. Воздух как будто медленно-медленно засасывался в узкую воронку, а потом его тут же с силой выбрасывали назад неравными порциями через неплотно прикрытое вибрирующее отверстие. Тимку всегда раздражал этот храп, но сейчас он был просто невыносим. Захотелось прямо тут же сбежать из дома. Тимка посмотрел в окно: почти темно. Лето кончалось и светать стало значительно позднее. Но птицы из рощицы, в которую выходила тимкина комната, давно пробудились, и их звонкие голоса весело врывались в открытую форточку, перемешиваясь с опротивевшим напрочь храпом. Тимка завидовал птицам: тем всегда весело. Интересно, есть ли у их малышей бабушки? Тимка вздохнул и покосился на топчан, на котором спала его бабушка. Он темнел у стены бесформенной кучей. Чтобы как-то избавиться от терзавшего его храпа, Тимка снова стал думать о птицах. Но тут бабушкин топчан сиротливо заскрипел, куча у стены зашевелилась и Тимке показалось, что не только он один бодрствует в комнате. Более того, он был в этом почти уверен, что сквозь скрип услыхал всхлипывания.
- Бабуль! - шепотом позвал Тимка, - бабуль, ты что?
Жуткий храп бился в тимкину дверь и мешал слушать.
- Бабуль? - напряг слух Тимка, - я здесь! Ты что, бабуль? Тебе плохо?
Куча у стены не отзывалась. Тимка, затаив дыхание, стал напряженно прислушиваться. Куча молчала. Но Тимку провести было невозможно. Он встал и решительно прошлепал босыми ножками к бабушкиному топчану.
- Подвинься, бабуль, - тронул он бабушку за плечо, - я хочу к тебе. Чтобы тебе не было страшно, - для полной убедительности добавил он.
Бабушка молча подвинулась, и Тимка не спеша основательно устроился у нее под боком.
- Вот так! - обнимая бабушку и тесно прижимаясь к ее теплому телу, заключил Тимка.
- Ах ты мой защитник! - вдруг горячо зашептала бабушка и прижала тимкину головку к своим губам. - Спи, миленький, еще рано.
Да, бабушка действительно плакала. Тимка почувствовал, что подушка под ним сильно влажная и чем-то теплым замочило ему макушку.
-- Не плачь, ба, - привстал на локте Тимка, уже вот-вот готовый сам разреветься. - Мама говорит, что тебе там лучше будет, - неуверенно продолжил он шепотом. - А мы к тебе ездить станем. Опять же - врачи там. И уход, - повторил он многократно слышанные дома слова. - А я вот выросту и заберу тебя к себе, не плачь.
Он по-взрослому провел ручонкой по мягким бабушкиным волосам и поцеловал ее в мокрую переносицу.
- Все, все, Тима, не буду. Спи, - чуть запинаясь, в ответ прошептала бабушка.
... Тимка проснулся оттого, что кто-то его сильно тормошил. Он открыл глаза и сразу зажмурился: в окно уже било яркое солнце. Чуть приподняв веки, он встретился с глазами матери и было открыл рот, чтобы спросить "А бабушка...", как мать строго приказала:
- Быстро вставай! И так опоздали! Поедем нашу бабушку пристраивать! Такси уже пришло! Мигом! - крикнула она, убегая. - Назад приедем - позавтракаем! Давай!
Тимка тут же сорвался с постели и, на ходу застегивая помоч от штанишек и засовывая ноги в сандалики, вылетел на крыльцо. Бабушка сидела уже в машине и смотрела куда-то в сторону. Шофер, чубастый молодой парень в гимнастёрке, в чёрных морских клёшах, наспех засунутых в кирзовые сапоги, бил ногой по переднему скату, проверяя его на прочность. Отца не было видно. Мать торопливо запихивала в багажник узелок с бабушкиными вещами. Из-за соседского забора на все происходящее хмуро глядели тетя Галя и дядя Ермолай с маленькой Ленкой на руках. Тимка, забыв сказать "здрасьте", сразу побежал к машине.
- У-уу, ироды! Родную мать... - услышал он, забираясь к бабушке на колени, и почувствовал, как бабушка вздрогнула.
- Ну... поехали! - мать, потная, тут же рядом плюхнулась на сиденье. - Поехали! Давай!
Шофер нехотя кончил бить ногой по скату, зачем-то посмотрел на небо, словно испрашивал у него разрешение на отправление, и медленно полез за баранку.
- А дядя Ваня...то есть... где папа? Папа где? - заволновался Тимка, - подождите!
- Ехай, ехай! - тронула шофера за плечо мать. - Папа твой занят, - не поворачиваясь лицом к Тимке, объяснила она ему деревянным голосом. - Он не может. Он умеет только руки распускать. Да и то, когда пьяный. А когда он не пьяный? - она, заводясь, начала, было, переходить на крик...
Тут шофер с неподдельной яростью дернул за рычаг, и машина резко рванулась со двора. Бабушка охнула и прошептала: "Ну, все!". Тимка почувствовал, как ее теплые руки еще крепче сжали его. Мать сразу замолчала...
Когда через некоторое время вдали показались неровно рассыпанные по яркозеленому полю белые домики, пансионат для престарелых, Тимка твердо решил показать свой мужской характер и ни в коем случае не зареветь. Мать сразу заерзала на сиденье и, будто призывая всех присутствующих в свидетели, начала поочередно всем заглядывать в глаза и фальшиво восклицать: - Красота-то какая! Вы только подумайте, как у нас заботятся о старости! Ну чисто рай небесный! А речка-то, речка! Поглядите-ка! А па...
- Да перестань ты паясничать! - неожиданно перебил ее до этого всю дорогу молчавший шофер. "Речка-то! Речка!" - фальцетом пере- дразнил он её. - Что-то не больно-то сама сюда рвешься, кикимора!
И рывком нажал на газ. Машина взвыла, а мать, словно ничего не произошло, продолжила восхищаться открывшимся взору пансионатом, показывая всем своим поведением, что она очень завидует тому, что доля жить здесь до конца дней своих несправедливо досталась не ей, горемычной, а ее более удачливой матери.
Наконец-то подъехали к выкрашенным в зеленое воротам. Шофер затормозил, вылез из машины и, буркнув "разбирайтесь тут сами!", резко махнул рукой и, не оглядываясь, сразу сгорбившийся, медленно поплелся вдоль длинного-предлинного забора. Бабушка как-то засуетилась, заспешила и никак не могла снять Тимку со своих дрожащих коленей. Да и Тимка, как на грех, вдруг весь одеревенел. Пальцы вцепились в спинку сиденья и не хотели разжиматься. Выручила, как всегда всех мать: она уже успела сбегать к воротам и вызвать двух пожилых женщин в белом. Они втроем подошли к машине.
- Мама! - громко сказала мать, - вот видите, нас уже встречают! Как здесь культурно, мама! А ты, пострел, чего прилип! - и Тимка заработал подзатыльник. - Ну-ка быстро вылазь! Мы и так опаздываем!
Куда и за чем "опаздываем", она не уточнила, но зато Тимка был тут же сильным рывком выдран из машины и поставлен на ноги на землю. Женщины в белом помогли выбраться бабушке.
- Ну вот, - привычно сказала одна из них, - значит, это, прощавайтесь!
Тимка твердо подошел к бабушке, молча ткнулся в её подол, затем отошел на шаг и пробормотал: - До свиданья, ба... - А мать вдруг с возгласом "Ой! А узел-то совсем забыли!" кинулась к машине. Узел у нее тут же забрала другая женщина в белом, и обе служительницы с бабушкой посередине медленно прошли ворота и направились по неширокой аллее к стоявшему несколько в стороне от остальных домику. Тимка насупился и стал сбивать носком сандалика пыль с тротуара. Мать крепко держала его за руку и искала глазами шофера. Где-то заиграли "Помнишь, мама моя" ...
- Бабулечка! - вдруг рванулся вперед Тимка, - бабулечка, не уходи!
Слезы хлынули из него, как дождик из темной тучки. Мать сразу крепче сжала тимкину ручонку и, дернув её на себя, зло прошипела:
- Я те поору! Цыц, паршивец! - и принялась побыстрее запихивать его в машину.
- Я не хочу! Не хочу! А-а-а! Пусти! Пусти, ты! Бабулечка-а-а!...
Тимка рвался, хрипя, из рук матери и ему казалось, что тысячи и тысячи колоколов вдруг взорвались гулким медным звоном, яркое солнышко вздрогнуло, побледнело и быстро-быстро покатилось за далёкий горизонт...
"Не хочу! Не хочу!" эхом металось невыносимое тимкино горе, и три фигурки на аллее заторопились, путая шаги...
1981 г. Кишинев
Новый Афон - Пицунда
Синеглазое веселое солнце привычно смотрело со своей высоты на старый, когда-то давно шагнувший в самое море на своих высоких крепких сваях дощатый причал, о который нетерпеливо бился небольшой белоснежный прогулочный катер, издали похожий на хорошенькую чайку, качающуюся на мягких изумрудных волнах. Последние опоздавшие торопливо и виновато быстро пробегали мимо укоризненно глядевших на них двух усатых ответственных за посадку, кое-как суя им в руки мятые туристические карточки. На борту опоздавших встречало такое же темнокожее и усатое лицо, как и первые два на причале.
Все скамьи на верхней палубе были заняты туристами, однако для каждого вновь прибывшего все равно немедленно откуда-то обнаруживалось "одно местечко". Детвора, словно мухи, лепилась у бортов. Причальный динамик в очередной раз громко и гортанно прокричал, что "Теплоход "Апсны" отправляется в путешествие по маршруту "Новый Афон - Пицунда", приятного всем путешествия!", тут же быстренько начали убирать трап и закрывать бортовую дверцу. Люди на палубе, до этого гомонившие, словно птицы на диком утесе, как-то вдруг попритихли, стали поплотнее усаживаться друг подле друга на жестких деревянных скамьях и почти перестали шевелиться.
Одни ожидали выхода в море с плохо скрываемой тревогой, потому что им впервые в их жизни придется плыть по морю на судне и что и как оно там будет - одному Богу известно.
Другие наоборот: с особым нетерпением предвкушали близкую встречу с могучим дыханием открытого моря, с безбрежным бирюзовым простором, соприкасавшимся далеко-далеко у самого горизонта с яркой бездонной синью утреннего июльского неба.
Третьи совсем притихли в своих обычных людских заботах, припоминая, все ли, что необходимо, взято с собой в дорогу, не забыто ли что, и просто размышляя о прочих житейских мелочах, без которых любой из ний практически не мог существовать.
"Теплоход", как солидно звала команда свой катерок, между тем громко и натужно заурчал, внутри него что-то зашевелилось, задрожало, забилось, и он медленно начал отходить от причала. Он будто проснулся от долгой спячки, ожил, повеселел, сразу заплясал на легкой прибрежной зыби, отчего и его пассажиры тут же вдруг зашевелились, задвигались, заговорили, словно внезапно пробудились от сковывавшей их какое-то время неизвестности. Те, кто постарше, особенно женщины, сразу принялись натягивать на себя теплые, припасенные в дорогу, кофты, набрасывать на плечи себе и близким все, что было из одежды под рукой: защищались от свежего соленого ветра, уже загулявшего по маленькой палубе. Ребятня дружно загалдела, ощущая приливы особой радости от пенившейся за бортом прозрачной воды, громкоговорители, укрепленные на носовой и кормовой сторонах небольшой рубки, неуклюже торчавшей посреди палубы серым спичечным коробком, заклокотали ритмичной музыкой, прибавляя кому веселья, кому - грусти, а кому - обычного шума в ушах. Хотя солнышко еще не жгло, как это часто бывает в тех краях к этому часу, и до жажды было еще далековато, все же некоторые пассажиры начали спускаться по крутой винтовой лестнице под самой рубкой в спрятанный на дне "теплохода" малюсенький бар. Двухчасовое морское путешествие в Пицунду началось.
Мне достался маленький уголок скамьи перед самой рубкой, почти у входа в нее. Дверь рубки едва держалась на петлях: члены команды катерка сновали туда-сюда, безбожно хлопая ни в чем не повинной дверью. На них не было обычной морской формы и поэтому невозможно было определить, кто есть кто. Обычно каждый из них, будь то входящий в рубку или выходящий из нее, пролетал перед палубной публикой этаким гоголем, в дижениях его скользила ленивая молодцеватость, скорее - развязанность, полное и показное пренебрежение "к этим салагам", которых-то и в мертвый штиль непременно укачивает. Эти люди ходили небрежно, вразвалочку, смотрели поверх наших голов, в никуда, а закрывая за собой дверь старенькой рубки, в последний момент так нещадно дергали ее разнесчастную, что сразу раздавалось нечто вроде небольшого взрыва, дополнительно обращавшего внимание окружающих на то, что такой-то вошел в рубку или, что еще более значительно, вышел из нее.
Рядом со мной вплотную разместилась средних лет полная женщина, то и дело хватавшаяся за голову после очередного дверного выстрела. Каждый мускул на ее страдальческом лице выражал непреодолимую муку, когда новый герой заполнял проем двери своими крепкими плечами. Однако ее дочь-подростка, примостившуюся тут же рядом на скамье, все это приводило в неописуемый восторг, в заливистый звонкий беззаботный хохот. Девчушка, сидевшая до отплытия очень смирно, даже испуганно, все время жавшаяся к матери, как только катерок выкатился в открытое море, словно по волшебству тут же заерзала, завертела в разные стороны небольшой, на тонкой, не успевшей еще загореть белой шейке головкой, приникая время от времени красиво очерченными пухлыми губками к страдальческому уху матери, стремясь поделиться с той переполнявшими ее чувствами. Когда же дверь выстреливала и мать крупно вздрагивала, хватаясь с жуткой гримасой на лице за голову, это приводило ее дитя в такой неописуемый восторг, что оно начинало безумно хохотать, бессильно падая при этом на мать, пронзенное легкой детской радостью, неспособной услышать и понять плач взрослой души. А может мать нашла удачную игру?
Около получаса прошло с момента отплытия. Катер шел ровным ходом в открытом море параллельно береговой линии. Слева, насколько хватало взгляда, в лучах яркожелтого солнца синело и синело море. А справа чуть ли не от самого берега в небо упиралась крутая горная гряда, до половины одетая в роскошную южную зелень с белыми нарядными шапками нерастаявшего снега на голых каменистых вершинах. Ветер крепчал. Вскоре легенький катерок начало прилично подбрасывать, словно лихой тарантас на деревенских ухабах. При этом катерок напрягался, напружинивался, сдержанно гудя, а тугая разгулявшаяся волна с размаху била в его недавно старательно выкрашенный невысокий бортик. Но катерок твердо следовал своим курсом, упрямо не обращая ровно никакого внимания на начинающее закипать от злости море. Люди с кормы, с носа потянулись поближе к середине, к рубке, где меньше всего укачивало. Лица их, постепенно остывая от недавней веселой туристской суеты, становились серьезными, даже напряженными. Громкие разговоры взрослых и гам ребятишек поутихли. Каждый ушел в себя, пытаясь отогнать прочь начавшую подступать к самому горлу тошноту. А у меня в голове завертелись и завертелись невесть откуда взявшиеся строки:
Мы все действительно салаги:
Качнуло море только чуть
И нашей выспренности шпаги
Пронзили собственную грудь.
Волна летит, летит, несется,
Смеясь, рисует свой узор.
Ох, не напиться б из колодца,
С тоскливым именем "Позор"!
Я вспомнил, как сосед по гостиничному номеру в ответ на моё предложение прокатиться морем в Пицунду, только ехидно заметил: "Вы бы, Тимофей Павлович, поостереглись этих сомнительных мероприятий местного турбюро". "Почему так?" - искренне удивился я. "А потому, - глубокомысленно ответствовал сосед, - сами увидите, если поедете." Похоже, стреляный воробей этот мой гостиничный сосед...
... Катерок швыряло из стороны в сторону. Казалось, вот-вот наступит момент, когда срели сгрудившихся в беспорядке у рубки испуганных людей кто-нибудь первым не выдержит, расслабится, сорвется, не сладит с еле сдерживаемой и рвущейся наружу, на люди, напоказ тошнотой и тогда... И стоявшие, и сидевшие - все с тревогой посматривали то друг на друга, то на усыпанное крупными белыми барашками потемневшее, совсем недавно такое чистое, такое ласковое и приветливое море. Солнышко, как ни в чем не бывало, светило все также ярко и весело, горы невозмутиво-величаво уплывали назад, а море... Оно стало иным, совсем иным: неприветливым, злым и, казалось, вот-вот его обуяет страшая ярость. Белые барашки начали превращаться из красивых, живописных, приятных глазу туриста бурунчиков, в с шумом перехлёстывающие через мелкие бортики катерка ушаты неприятной в этот момент воды, обдававшей холодным душем сбившихся в кучу у рубки уже явно напуганных всем происходящим людей. Видно было, что настроение у всех сильно испортилось, и глухое раздражение вперемежку со страхом сковало незадолго до этого беззаботную и настроенную на праздник разношёрстную массу туристов. Казалось, не хватало только того, на кого мог бы разрядиться гневом этот огромный ком людской несправедливости., чтобы снова всем стало легко, приятно и празднично.
Тут среди почти обреченно молчавших, сгрудившихся у передней части рубки людей случилось легкое движение. Показалось, что к ним кто-то пробирался с другой стороны рубки.
- А ну-ка, женщины, разрешите-ка, разрешите! - послышался оттуда жесткий и властный женский голос. - Ну-ка позвольте-ка мне пройти! Посторонитесь-ка, мамаша! - это уже к женщине, стоящей у нашей скамьи в первом ряду. - Сыночка-то отпусти, отпусти, милая! Чего это ты его на руки-то подхватила? Гляди, он уже почти что с тебя ростом! Вот-вот поллитру запросит! - Кто-то из стоявших рядом раздражённо и недобро заулыбался. Прямо передо мной из толпы выбиралась невысокая полноватая конопатая пожилая женщина в простеньком стареньком цветастом, похожим на домашний, халатике. На ее сухих крепких ногах - растоптанные, видавшие виды неопределенного цвета босоножки, из которых вылезали неровные сухие пальцы, никогда не ведавшие, вне всякого сомнения, что такое педикюр. Голову ее покрывала старенькая соломенная шляпка, удерживаемая на голове тоненькими желтенькими тесемочками, завязанными узелком на небольшом круглом подбородке. Из-под шляпки курчавились густые, но совсем-совсем седые волосы. Посреди круглого простого и совсем неприметного лица с широко расставленными небольшими и давно выцветшими круглыми глазами прилепился еще более неприметный, чуть вдавленный в переносице и заканчивающийся небольшой круглой картофелинкой нос. Большой рот окаймляли тонкие, еле подкрашенные губы. Эта женщина еще что-то кому-то на ходу крикнула, и я...я сразу узнал ее! В одно мгновение какая-то все отравляющая ярость прямо-таки забулькала во мне! Да это же опять местная культурница нас настигла! Боже! Даже в шторм в открытом море от нее - никакого покоя! Я повернулся к соседке:
- Ну, сейчас мы все тут запоем-запляшем! Не доконала она нас еще там, на земле!
- Ну что вы! - через силу улыбнулась соседка, стараясь быть вежливой и приветливой, но у неё это плохо получилось, - что вы! Хотя сейчас явно не до шуток, но всё же...- Какие уж тут шутки! - гнул свое я, - сейчас начнется! - и показал глазами на пришелицу. Соседка посмотрела по направлению моего взгляда и по её лицу я понял, что ей трудно было скрыть, как и мне, свою неприязнь к прорывавшейся к нам напролом культработнице.
А та уже твердо стояла на свободном простанстве палубы, держа в одной руке рулоном свернутую общую тетрадь, а другой поправляя съехавшее на нос сомбреро.
- Сейчас мы станем петь! - безапеляционно заявила эта дама и, раскрыв наугад свою тетрадку, пояснила: - Здесь у меня записаны слова песен.
Меня начало душить зло: так я и думал, что этим кончится! Ну и путешествие! Постоянно грохающая дверь рубки, эта заносчивая и всех презирающая команда, начинающий звереть шторм и вот он заключительный подарок отдыхающим в виде этой бесцеремонной бабенки! Вспомнилось "Спокойно, Ипполит, спокойно..." Было видно, что и остальные "отдыхающие" без явного энтузиазма восприняли появление активистки в столь напряжённый для них момент. "Хорошо бы не побили её сгоряча, - подумал я. - Совсем тётка ополоумела! "
Тем временем действо у рубки разворачивалось своим положенным ему чередом. Затейница громко, перекрывая шум бьющихся о бортик катерка раздраженных волн и натужное гудение этого крепкого и упрямого ослика, продолжала приказывать:
-- А ну-ка, кто поближе, смотрите в мою тетрадь, остальные хором подхватывают! И-и-и... начали!
Пусть плывут неуклюже
Пешеходы по лужам,
А вода - по асфальту - рекой!
Она пропела это громким и на удивление чистым голосом.
- Внимание! Мужчины тоже поют!
- Сейчас,- чуть не выкрикнул я, - как же!
Она глядела прямо на меня, словно угадала ход моих мыслей:
- Мужчины! Не отставайте!
Но все молча и открыто недружелюбно, вроде меня, поглядывали на этот старый круглый облезлый феномен посреди шторма. Но сие обстоятельство ее совершенно не смущало: как ни в чем не бывало, она продолжала, размахивая себе в такт правой рукой, а левую, с тетрадкой, держала вытянутой перед собой так, чтобы стоящие рядом видели слова песни, которые были ею выписаны крупным разборчивым четким почерком на разлинованной белой бумаге.
...И не ясно прохожим
В этот день непогожий,
Почему я веселый такой!
- Давайте, женщины, давайте! Ребята! Мужчины! Подпоем! Дружно!
А я играю
На гармошке
У прохожих
На виду...
- Мужчины! - она опять в упор смотрела на меня. Дался же я ей! - Не слышу мужчин! Молодой человек! - она принялась яростно теребить стоявшего рядом с ней парня: - Ну что же вы! Подхватывайте! - Но парень только неприязненно смотрел на ее выкрутасы и все теснее прижимал к себе свою спутницу, которой было очень плохо. А может и наоборот: даже очень хорошо? Определить это точно было невозможно, потому что девушка обхватила парня обеими руками за шею и уткнув ему в плечо свою головку, почти висела на нем.
Море свирепело. Волны с теском бились о борт и соленые брызги начали доставать уже сгрудившихся у самой рубки.
-- Детки! Все детки!
К сожаленью,
День рожденья
Только раз в году! -
одиноко кричала запевала под шум ревущих волн среди угрюмого, злого, беспокойного и какого-то больного молчания стоявших рядом с ней людей.
И... И все же она добилась своего! То ли потому, что было неловко смотреть, как пожилая женщина, которой и самой-то было, быть может, не лучше, чем остальным, никак не воспринимавшим ее, старается провести запланированное мероприятие, то ли потому, что становилось неловко чувствовать себя мешающим ей зарабатывать на кусок хлеба, то ли просто из обычного человеческого сострадания (чего у русского человека всегда в избытке) к неудаче другого себе подобного, то ли еще по каким иным причинам, не знаю и гадать не стану, но кое-кто из женщин, из детей и... увы, я сам начали неуверенно ей подтягивать, подпевать, поддерживать ее. На этот факт она даже бровью не повела! Как будто все идет именно так, как и должно было идти с самого начала!
Хоть и злость брала меня из-за этой тетки, но уже спустя какой-то десяток минут я вместе со всеми окружающими горланил "А я играю на гармошке у прохожих на виду"! Что она сделала с нами, эта женщина! Все тотчас забыли, что им невыносимо плохо! Те, что поголосистее, - а таких вдруг обнаружилось почти девять десятых - старались перекричать друг друга, перепеть, да и что там греха таить, просто переплюнуть! И стар, и мал!
...Тем временем наш катер выскочил, наконец, на серый песчаный пляж Пицунды под строгое молчание огромных реликтовых сосен и вполне недоуменные взгляды загорающих: крутая черноморская волна давно отстала на полпути где-то между Гудаутой и Пицундой, а легкое белоснежное суденышко, упершись носовой частью во влажный зернистый песок, продолжало сотрясаться от коллективной боли за то, что "Для кого-то - просто летная погода, а ведь это - проводы любви". Спускаясь на берег по трапу, перекинутому прямо с носа суденышка на пляж, я услышал, как недавняя моя соседка по скамейке на палубе, шедшая позади меня, спросила свою дочь:
- Ну, как, солнышко, не тошнит больше?
- Что ты, мама! У меня все горло дерет от песен! - удивленно ответила девчушка и тут же в ответ потребовала: - Мама, купи мне мороженого!
- Да это не тебе надо мороженое покупать, а вон бабушке из Ленинграда, которая всех нас по-настоящему спасла! - парировала мать. - Пойдем лучше да купим ей цветы.
- К-к-ак это из Ленинграда? - повернулся я к ним. - Она, что, не местная разве? Не из турбюро? Не культработник?
- Да из какого там турбюро! - досадливо махнула рукой на меня женщина. - Из какого турбюро! Какой там культработник! Опомнитесь! Из Ленинграда она! Отдыхающая! Как мы с вами! Бывшая фронтовичка! А живет... чуть ли не в доме для престарелых... Одна, как судьба...
- Вот оно что! - я так и застрял посреди трапа, огорошенный этой новостью. - Да она же, как... как на фронте... Впереди всех... Одна... За всех...Для всех...А я... А мы....
- Эй, проходи! Чего стал! - резко толкнул меня в спину чей-то раздраженный нетерпеливый голос, и я поплелся вниз, не разбирая ступенек...
1982-1983 г.г. Кишинев
Срочный вызов
1.
Рабочий день близился к концу. Оставалось чуть больше часа. Южный зимний день тоже завершался. Пространство по ту сторону окна кабинета делилось надвое: слева где-то уже рядом находились сумерки, но словно боясь войти в холодный мелкий дождь, непрерывно сыпавший с самого раннего утра, они выжидали со своим появлением. Справа надвигалась темная рваная туча, поглощая собою и заунывный дождь, и редкие светлые полоски завершающегося дня, кое-как вырывающиеся из густой чернильной сырости. Местами достигая окна, туча растекалась по стеклу грязной вязкой массой.
- Вот и все, - подумал Тимофей Павлович, - совсем добралась.
Какая-то еще неосознанная тревога помимо его воли проникла снаружи в его кабинет и начала медленно сжимать и, как ему показалось, даже искривлять окружающее пространство. Вдруг зазвонил внутренний. Тимофей Павлович невольно от неожиданности вздрогнул, но трубку снял медленно и глухо произнес:
- Вологодцев.
- Слушай, Вологодцев, сейчас только звонил Иван Андреевич из...- трубка что-то неразборчиво прохрипела голосом главного инженера, - срочно хочет тебя видеть.
- Кто-кто? - откашлявшись, быстро переспросил Тимофей Павлович. - Какой Иван Андреевич? Из...- Он посмотрел на потолок своего небольшого кабинетика.
- Да, да! Он самый! - перебил главный, словно телепатически перехватил взгляд своего собеседника. - Собирайся побыстрей!
Немного помолчав, озабоченно добавил:
- Машина у меня куда-то уехала некстати. Накажу я этого Васю. Совсем разболтался парень: уже в рабочее время начал калымить. Вот рас... разгильдяй! - быстро поправился главный.
- Но я... - начал было Тимофей Павлович, - да у нас с ним шапочное знакомство, - наконец твердо выпалил он. - Не понимаю, зачем...
- Да на месте там и разберешься! - закричал в трубку главный. - Разберешься! - для большей убедительности опять прокричал он. - Да давай поскорей! В таких инстанциях ждать не привыкли! Беги мигом в бухгалтерию! Там тебе уже выписали талоны на такси! Ровно через двадцать минут ты должен быть у него! Комната 121! Синчер Иван Андреевич! Все запомнил?
- Запомнил, - в полной растерянности буркнул Тимофей Павлович. Потом медленно положил трубку и нехотя как бы заторопился в бухгалтерию.
- Зачем я ему понадобился? - тревожно недоумевал он, - медленно поднимаясь по лестнице, машинально шагая через одну ступеньку. - Зачем?
Ему было неудобно встречаться с Синчером не только потому, что тот работал "наверху" и получалось, что разговор с Синчером будет происходить через голову его, Тимофея Павловича, непосредственного начальства. А начальству, как известно, такое положение вещей всегда не по душе, если говорить слишком упрощенно. Неудобство было связано и с чисто личными мотивами. Лет десять тому, когда Тимофей Павлович работал зав. отделом в одном министерстве, к нему неожиданно заявился его бывший однокашник по университету Валера Ярмурин с каким-то незнакомым парнем. Тимофей Павлович обрадовался Валере: не встречались много лет. Как водится в таких случаях, разговорились "за жизнь". Спутник Валеры все время скромно молчал, давая возможность, видимо, всласть повспоминать прошлое. Наконец, Валера приступил к разговору, ради которого он, собственно, и разыскал Тимофея Павловича. Оказывается, Валера пришел к нему вести переговоры о переходе на повышение: спутнику Валеры там, "наверху", поручили организовать подразделение, связанное с планированием внедрения вычислительной техники в Республике. Он набирал себе кадры. В качестве одной из кандидатур ему посоветовали Тимофея Павловича. Тимофей Павлович тогда сразу наотрез отказался, даже не поинтересовавшись, на какую работу его приглашают: было неудобно оставлять место, где он работал всего около года и где ему просто нравилась его работа. О власти и о деньгах в те неправдоподобные времена такие, как Тимофей Павлович, просто не думали. Ничего, кроме работы, любимой и полезной обществу работы им и в голову не приходило! На том и разошлись. Спустя несколько лет Тимофей Павлович был назначен руководителем организации другого министерства и ему по долгу службы приходилось бывать "в инстанциях". Каково же было его удивление, когда однажды он узнал в руководителе одной из таких "инстанций" того самого парня, с которым приходил к нему Валера Ярмурин. Это был Синчер. Так уж случилось, что за все время директорствования Тимофея Павловича, ему ни разу не пришлось лично столкнуться с Синчером. Тот был вечно вне кабинета, куда Тимофей Павлович заходил к своему куратору. Хотя Синчер и Тимофей Павлович заочно знали друг друга и не раз разговаривали по телефону. Синчер тогда сам напомнил ему об их давнем знакомстве, не намекая совсем об их неудавшейся в то время деловой встрече, доброжелательно вспоминая некоторые смешные эпизоды их разговора, передал привет от Валеры, с которым Синчер до повышения вместе работал, а теперь вот живет в одном доме. На том тогда разговор и закончился.
И вот этот срочный вызов. Тимофей Павлович, работал вновь в должности зав. отделом и уже начинал забывать "инстанции" с их мягкими дорогими коврами и тревожной тишиной коридоров, с их сверхвежливым обращением, после которого быстро знакомишься с валидолом. Сегодня, почти вот сейчас ему вновь предстояло соприкоснуться с тем, о чем он даже не хотел вспоминать.
Еще два обстоятельства расстроили Тимофея Павловича. На работу он всегда ходил в строгом костюме. Галстук был непременным атрибутом его одежды. Сегодня же, как на грех, он явился на работу, сам не понимая почему, в какой-то легкомысленной куртке, без галстука и в старых брюках. Весь день он чувствовал себя не в своей тарелке, ему было стыдно перед своими сотрудниками, а под вечер на тебе! Вызвали! И куда! Как он теперь в таком виде там появится? От таких мыслей у Тимофея Павловича начало болеть под левой лопаткой. Да к тому же именно сегодня ему приспичило купить в обеденный перерыв в соседнем магазине сладкие сырки. Жена просила. Ну как он попрется туда с этими сырками? "Ну, Тимка, - подумал он о себе, - попал ты, как кур в ощип!"
Получив талоны, Тимофей Павлович одеваясь на ходу, поспешил к выходу. В кармане его полупальто камнем болтались как попало завернутые в жесткую бумагу для распечатки данных сырки, и он втайне надеялся, что в столь короткий срок, отпущенный ему главным инженером, не удастся поймать никакого такси. Но, как всегда, ему не повезло: едва выбежав во двор, он увидел подъезжающую легковушку. Ту самую, которую потерял главный. И совсем расстроился. Но вдруг его осенило: да они же должны ехать мимо его дома к Синчеру!
- Вася! - крикнул Тимофей Павлович, замахав руками навстречу приближавшейся машине. - Вася, стой! Разворачивайся! Кое-куда поедем! Главный приказал! Давай побыстрей, - уже спокойнее сказал он, садясь в машину, - надо заехать еще ко мне домой.
2.
К зданию с колоннами они с Васей подъехали, когда до назначенной встречи оставалась ровно одна минута. А надо было еще добежать до центрального входа по широкой правительственной лестнице, попасть в вестибюль и пройти "через милиционера", что было не таким уж простым делом за такое короткое время. К тому же многие посетители этого огромного белокаменного гиганта уже сплошным потоком хлынули из него, как из чрева сказочного исполина. Надо было еще успеть обязательно оставить в раздевалке свою верхнюю одежду, не забыть после этого тщательно привести в порядок свою прическу, костюм, галстук, обувь. Тимофей Павлович до поступления в университет три года служил в армии и до сих пор не разучился распоряжаться секундами. Не обращая внимания на недоуменные взгляды встречных, он стремглав несся вверх по широкой белокаменной лестнице, ведущей к центральному входу в здание, перепрыгивая сразу через несколько ступенек, отчего его полноватая небольшая фигурка очень походила на скачущий вверх кем-то с силой пущенный мяч. Перед входом в здание Тимофей Павлович остановился, вновь обрел свою солидность и степенно прошел мимо милиционера в полупустой вестибюль. У раздевалки (надо же!) неожиданно столкнулся с руководителем министерства, в котором перед этим работал и который тогда был его непосредственным начальником. Тот шел одеваться. Холодно поздоровались.
- Черт знает что! - раздраженно подумал Тимофей Павлович. - Тут как на Дерибасовской в Одессе: кого только ни встретишь!
Он быстренько привел себя в порядок и начал искать 121-й кабинет. Он оказался почти рядом с раздевалкой.
- Хорошо, что их перевели на первый этаж, - с облегчением подумал Тимофей Павлович. - Не то сейчас бы совсем некстати пришлось бежать бы, как раньше, на четвертый.
Тимофей Павлович облегченно вздохнул и постучал в отделанную светлокоричневым блестящим шпоном легкую дверь. Открыл. В комнате сидело четверо сотрудников. У стола одного из них сидел хмурый посетитель. Никого из присутствующих Тимофей Павлович не знал. Все были новые. Синчера не было.
- Товарищ Вологодцев? - полуутвердительно-полувопросительно произнес сотрудник, перед которым сидел посетитель.
- Да, я. А Иван Андреевич?..
- Он просил вас подождать немного. Срочно вызвал зам. - ответил тот. - Посидите пока вот за его столом.
- Ну что вы! - засмущался Тимофей Павлович, - неудобно как-то! Я посижу, если не возражаете, вот за этим. - Он сел за свободный стол, стоящий рядом со столом Синчера. Пока Тимофей Павлович сидел в ожидании, в комнате никто из сотрудников даже головы не поднял и не взглянул в его сторону. Все продолжали заниматься своими делами.
- Вышколенные! - усмехнулся про себя Тимофей Павлович.
Тимофей Павлович немного нервничал. Во-первых, он никак не мог определить, по какому вопросу он так срочно понадобился Синчеру. Во-вторых, не знал, как себя с ним вести при встрече. За то время, что они не виделись, Синчер закрепился "наверху", а он, Тимофей Павлович, сильно и больно упал вниз. Лучше бы они вовсе не были знакомы!
На удивление все прошло довольно просто: Синчер вошел в комнату, увидал Тимофея Павловича, заулыбался и, подавая руку, сказал:
- Извини, что заставил тебя ждать. Мы, наверно, лет пять не виделись?
- Десять почти, - хотел поправить Тимофей Павлович, но напряженно согласно кивнул головой и подтвердил: - что-то около того.
- Ну, пойдем немного побродим по коридору и поговорим, - Синчер мягко взял Тимофея Павловича за локоть. - Не будем здесь всем мешать.
И направился к двери. Тимофей Павлович последовал за ним. По коридору они медленно и молча прошли шагов десять. Видимо, Синчер думал, с чего начать.
- Ну, как тебе работается на новом месте? - наконец спросил он.
- Ничего, спасибо, - автоматически, внутренне собираясь, ответил Тимофей Павлович и замолчал. Поошли еще шагов десять.
- Ты не догадываешься, почему я тебя пригласил? - снова мягко заговорил Синчер. - Или ты уже в курсе?
- Ни в каком я не в курсе! Говорите же наконец! - не выдержал Тимофей Павлович. - А то не знаю, что и подумать! Какие у меня могут быть дела в вашем ведомстве? Я давно отошел от всего такого!
- Письмо писал?
- Какое еще письмо? - Тимофей Павлович оторопело смотрел на Синчера. - Куда?
- Туда! - Синчер большим пальцем правой руки показал вверх.
- Не писал я никакого письма! - Тимофей Павлович непонимающе уставился на Синчера. - Не писал!
- Ну как же не писал? - Синчер повидимому не ожидал такого ответа и оттого даже немного покраснел. - В Москву об АСУ писал? Не помнишь?
- В Москву об АСУ? А... Вон в чем дело! Писал, конечно. А при чем тут ваше ведомство? Да это и было-то когда! Я уже и забыл про письмо-то!
- Чего ж так?
- А того ж, - в том ему ответил Тимофей Павлович, - что я ответа и не ожидал. Не должны были мне отвечать. Я делился мыслями.
- А все помнишь, о чем писал?
- В деталях уже может и не все, но суть помню.
- Расскажи, пожалуйста, о сути. И вообще, что тебя сподвигло на это?
- Как это сподвигло? Вы что не знаете, какой болезнью мы все болеем? - Тимофея Павловича начало одолевать раздражение. - Вот уже пятнадцать лет работаю в этой сфере и никакого результата!
- Так только это и толкнуло?
- А вам этого недостаточно? Хотя, впрочем, это только поводом послужило. Знаете ведь, как наш брат мыкается с этими АСУ. Заказчики с нами что хотят, то и делают. Не выполняют правительственных постановлений. Многие вообще бы от АСУ отказались, да нельзя. Накажут. Вот они и измываются. Кому же охота свои внутренности выворачивать наружу! Тут даже маленького кладовщика не заставишь подключиться к АСУ: все его "дела" сразу выплывут наружу. А руководители вроде бы как и "за", но по сути заодно с кладовщиком. Мол, не трогай его, у него и так тяжелая работа, а ты тут со своей вычислительной техникой. Только мешаешь. А сами через такой склад кормятся!
- Погоди, погоди! - Синчер перебил Тимофея Павловича. - Вот я пережил уже четырех своих начальников, работая здесь. И ни при одном не смог осуществить свой проект, который у меня пылится в столе уже шесть лет. Не добился! А в этом проекте более крупные проблемы решаются, чем, я думаю, в твоем письме! Но я же не пишу туда. Жду...
- А чего ждать? Я ждать больше не могу! - Тимофей Павлович остановился и резко повернулся к Синчеру. - Доработался чуть ли не до пенсии и никаких сдвигов в этой области не вижу! Что за система! Кто-то должен сказать об этом вслух?
- Ну, ты хватил! Во-первых, не трогай систему. Надорвешься! Во-вторых, тебе до пенсии еще, как медному котелку. За это время, я думаю, многое изменится. А потом. Почему ты говоришь, что никаких сдвигов? Все эти годы мы накапливали опыт, факты. Если бы этих лет не было, мы бы сегодня, может, и не видели бы, что вся эта система нуждается в переустройстве. Разве не так?
- Да все так! - Тимофей Павлович махнул рукой, давая понять, что ему все об этом давно известно и не об этом у него болит душа. - Пора уже от разговоров к делу переходить! Мы же деньги зря едим и немалые!
- Да, денег уходит многовато, - согласился Синчер. - Счет идет на десятки миллионов.
- Вот, вот! - обрадовался Тимофей Павлович. - И об этом я писал! Показал резервы экономии, попросил обратить внимание на эти вопросы.
- Но ты же нового-то ничего не написал! Мы здесь все знаем об этом. И там, я уверен, знают не меньше нашего.
- Знать-то вы знаете, да делать ничего не делаете! - Тимофей Павлович начал задираться. - Да и не сделаете! Проблема эта - общегосударственная! Вон, например, поставщики: как слали оптовым базам десятки лет сопроводительные документы на товар как лично художественно оформленные, так и сегодня продолжают слать. На некоторых их них разве что стихов не хватает! Да и то только потому, что составители таких документов не владеют азбукой стиха. Не то бы мы все стали свидетелями "фактурной" поэзии. В этом деле на уровне страны царит полнейший произвол и никто никакой ответственности не несет!
- Ну, это только одна из проблем. И она, кстати, решается, хотя и медленно. Не так ли? - Синчер посмотрел, останавливаясь, на Тимофея Павловича.
- Решается-то она решается. Да не так быстро и кардинально, как хотелось бы. Впечатление, что она и не решается. Двадцать лет, насколько мне известно, тянется эта канитель!
- Ну, хорошо, - перебил Синчер, - я вижу, ты вошел во вкус. О чем же конкретно ты написал в письме?
- Конкретно? Пожалуйте вам конкретно. Пожалуйста...
Они еще долго ходили с Синчером по давно опустевшему коридору и говорили, говорили, говорили. Полупальто и пыжиковая шапка Тимофея Павловича сиротливо одни висели в пустой раздевалке. Наконец оба остановились перед дверью в 121-й кабинет.
- Я все жду, что ты спросишь, почему именно я разговариваю с тобой о твоем письме в Москву. Ты ведь его писал как гражданин страны?
- Ну, это слишком громко сказано! - покраснел Тимофей Павлович.
- В письме ты не указывал, где работаешь?
- Нет. Я дал только свой домашний адрес.
- Дело в том,- продолжал Синчер, - что ты имел намерение обратить внимание на проблему. И не более. Не так ли?
- Ну... - помрачнел Тимофей Павлович, чуя что-то недоброе.
- А там посчитали, что это народная жалоба и вернули письмо нашим соседям.
При этом Синчер кивком головы показал, где находятся их соседи. Тимофей Павлович еще больше помрачнел: это были очень серьезные соседи, которые всяким делом занимались в чрезвычайно специфической плоскости.
- Так вот, - продолжал Синчер, - исполнение письма находится на строгом контроле. Они должны ответить Москве и тебе. А что им отвечать? И как им решать твои ребусы? Ты, миленький, потревожил, знаешь кого? Ты представляешь себе положение этой фирмы?
- Да не нужно мне никакого ответа! Я не для ответа писал! Я и не ждал ничего! - от такого поворота событий Тимофей Павлович почувствовал, как лицо его начало просто гореть. С фирмой, о которой упомянул Синчер, лучше было не иметь никаких дел. Ни левых, ни правых.
- Тебе не надо, а им надо! - не унимался Синчер. - Письмо - на контроле! Соображаешь?
- Соображаю, - пробурчал Тимофей Павлович. - И что же теперь?
- Как это что? Да они там, когда твое письмо из Москвы получили, страшно вознегодовали! Как такую, мол, информацию можно было выпускать из республики? Если бы не отвечать Москве, то это еще куда бы ни шло! А тут надо что-то делать! Там сейчас такой муравейник! Ну, вот они и давай искать, мол, кто у нас в республике за АСУ отвечает. Звонят мне. Ты, мол, такого-то знаешь? Да, отвечаю. Знаю. А что он за человек? Может он не в себе? Не замечал, мол? Вот пишет тут отцу всякое!
- Кому, кому? - не понял Тимофей Павлович. - Какому отцу?
- Ну, ты совсем уже! - Синчер укоризненно посмотрел на Тимофея Павловича. - Не догадываешься, о ком они говорят?
- Вот болваны! - возмутился Тимофей Павлович. - Да не ЕМУ я писал. Не ЕМУ!
- А они утверждают, что именно ЕМУ! В общем, отвечаю им про тебя, что ты человек вполне нормальный, знающий, хороший специалист. Был на руководящей работе. Правда, имелись определенные шероховатости. Но не по его, мол, причине. Ну, говорят, давай заходи к нам, посмотришь письмо, надо, мол, как-то отвечать. Срок истекает. Я и сам ничего не понимаю, чего это их так переполошило? Я прочел письмо: ничего особенного. Ты привел там данные из трех отраслей, а я мог бы привести еще из многих. И все там нормально. Все - правда. Но мы-то ведь здесь этих поставленных тобой вопросов не решаем! Точнее - это не наша компетенция! Это ведь союзный уровень!
- Вот я потому и писал туда, что это не ваш уровень! - подхватил Тимофей Павлович. - Что они там, в Москве, не понимают?
- Кто их там знает! Письмо-то сюда вернули и требуют ответа! Как им ответишь? Что вы, мол, товарищи дорогие, извините, ошиблись и это надо вам решать?
- Ну и ответьте так!
- Да ты прямо, как ребенок! Тогда и для нас подойдет такой же вопрос, какой мне задали в фирме в отношении тебя!
- Какой?
- "В своем ли ты уме"! Вот какой! И что за сим может последовать, нетрудно догадаться! Тебя легче закопать, чем отвечать!
- Ну, тогда давайте я снова напишу туда и скажу открытым текстом, что они меня неверно поняли и что местные не виноваты. И т.п. Что меня неверно поняли. Что проблему им там, в Москве, надо решать, а не пересылать сюда письма. Что я не хочу никаких ответов. Просто хотел, чтобы они знали, что проблема существует, и что если ее игнорировать, сотни миллионов рублей и дальше будут выбрасываться на ветер.
- Не вздумай этого делать! - почти вскричал Синчер. - Не вздумай! Во-первых, пока они твое письмо получат, истечет формально срок исполнения этого письма. Этого-то никто, понял: НИКТО! Не допустит любыми путями. Во-вторых, получится, что наши местные оказались не на высоте перед теми, московскими. В третьих... В общем, это еще худшим пахнет, - неожиданно завершил он.
- Так что же делать? - Тимофей Павлович был краснее красной рыбы. - Не предполагал я, что из доброго дела такая каша заварится!
- Вот то-то и оно, что не предполагал. А стоило бы с твоим опытом. Не мешало бы. В общем "там" решили, что пока я с тобой поговорю, выясню, чего же ты хочешь, доложу им, а уж потом, видимо, и они с тобой станут беседовать. В общем, готовься. Я думаю, что тебе наверняка придется с ними встречаться.
3.
На работе Тимофею Павловичу долго пришлось объясняться с руководством. И директор, и главный много и с большим подозрением выспрашивали, зачем же все-таки он так срочно понадобился столь высокому начальству, о чем писал в своем письме в Москву и вообще: зачем писал. И когда, наконец, только твердо оба поняли, что все это им никак и ничем не грозит, немного успокоились и поотстали. Директор при этом вспомнил случай, как один рабочий откуда-то с Мангышлака написал в Москву о том, что некоторые решения 21-го съезда КПСС не выполняются в их местности и как спустя некоторое время в горкоме партии их небольшого городка раздался звонок прямо из самого ЦК КПСС, звонок, насмерть перепугавший все местное начальство. Звонивший, секрктарь ЦК, просил передать свою личную благодарность рабочему, поднявшему серьезные вопросы в своем письме.
- Но ты, Вологодцев, не работяга и получишь бо-о-о-льших пендалей за свою писанину, - в конце своего рассказа серьезно заключил директор. И немного подумав, добавил:
- В следующий раз ты пиши прямо в ООН! Чего там мелочиться!
Тимофей Павлович чувствовал себя, как в детстве перед поркой его вечно недовольной и раздраженной им матерью.
На четвертый день после этого разговора Тимофея Павловича перед обедом вызвал к себе главный.
- Снова звонил Иван Андреевич, - хмуро сообщил он, - и просил, чтобы ты немедленно с ним связался.
Тимофей Павлович вздохнув и мысленно ругнув самого себя за то, что ему всегда достается на орехи только за то, что он не может спокойненько, как другие, молча получать свою зарплату, направился звонить Синчеру из кабинета главного. Пока Тимофей Павлович звонил, главный и находившийся тут же замдиректора с нескрываемым любопытством постоянно поглядывали на него, отложив разговор, который они до того вели между собой . Синчер сообщил, что его и Тимофея Павловича приглашают на беседу товарищи, занимающиеся письмом. Оба должны прибыть завтра в 10 утра к товарищу Ботезату. Договорились встретиться у Синчера завтра в девять тридцать.
- Ну что? - почти в один голос спросили зам с главным, как только Тимофей Павлович положил трубку, - чего он хочет?
- Пойдем с ним к какому-то Ботезату из соседней с ними фирмы. Приглашает.
- О-о-о! - оба многозначительно переглянулись.
- Да-а! Заварил ты кашу...- о чем-то размышляя, проговорил главный. - Смотри...
Тимофей Павлович почувствовал, как внутри у него стало вдруг нестерпимо горячо от закипающей злости.
- Сам заварил, сам и расхлебаю, - как можно спокойнее произнес он. - Помощников не потребуется. - И вышел.
Назавтра Тимофей Павлович с Синчером в положенное время уже стучали в кабинет с яркой табличкой "Ботезату Ф.М."
- Не как у Синчера: у того целый список на двери,- подумал Тимофей Павлович.
Вошли. Их встретил маленького росточка коренастый мужчина лет тридцати пяти с рыжеватыми и зачесанными назад волосами.
- Маловат ростом-то, - удивился про себя Тимофей Павлович. Он слыхал, что в эту фирму на службу берут только высоких и очень высоких. - Касту готовят, - еще подумал тогда Тимофей Павлович. - А лучше бы с мозгами брали: толку было бы куда больше.
На этом его крамольные мысли закончились, потому что хозяин кабинета молча подал обоим вошедшим свою маленькую ручку. Сначала Тимофею Павловичу, потом - Синчеру. Жестом молча пригласил садиться. Оба молча сели за приставной столик друг против друга. Ботезату сел за стол, достал из желтой кожаной папки письмо Тимофея Павловича. Тот успел заметить, что многие места в письме были подчеркнуты жирным красным карандашом.
- Вам известно, - холодно начал Ботезату, обращаясь к Тимофею Павловичу, - что ваше письмо переслано нам для разбирательства по существу вопроса и что мы должны дать ответ на письмо вам и Москве?
- Да, известно, - коротко ответил Тимофей Павлович. - Мне об этом говорил Иван Андреевич.
- Объясните мне кратко, - продолжал Ботезату, глядя в упор на Тимофея Павловича, - что вы хотели сказать этим письмом? Что у нас творятся беспорядки? Даже если они иногда и имеют место, то разве нельзя было прийти к нам и поставить нас в известность? - он сделал сильное ударение на слове "нас". - Добиться, наконец, чтобы мы (снова акцент!) приняли меры? Зачем сразу писать наверх отцу? - Взгляд Ботезату был явно без любви к ближнему. - Ох, без любви! - подумал Тимофей Павлович, но глаз не отвел. И такого величания он сроду никогда не слыхивал.
- Простите, пожалуйста! - перебил он наступление Ботезату, - вы мое письмо рассматриваете как жалобу? Я вас правильно понял?
- А как прикажете его расценивать? Как пожелание нам здоровья и всяческих успехов? - Ботезату начал краснеть и стало видно, что не от скромности. - Вы пишете о непорядках в разработке и внедрении АСУ, приводите примеры из трех отраслей. Из ваших примеров видно, что в этих отраслях не хотят налаживать учет и поэтому мешают внедрению АСУ? Не так ли? А отсутствие учета позволяет им ловить рыбку в мутной воде? И обо всем этом вы, минуя нас, ТУДА пишете? - он взглядом показал, куда было адресовано письмо. - Получается, что мало того, что мы не выполняем Решения Партии, но напрямую способствуем явному воровству?
- Вы неверно поняли содержание письма, - спокойно возразил Тимофей Павлович, хотя подумал про себя, что на воре всегда шапка горит. - Во-первых, я в письме не жаловался, а писал, что хочу обратить внимание ответственных товарищей на то, как не надо делать АСУ, а во-вторых...
- Ничье внимание вы ни на что не обращали, а просто жаловались! - не дав договорить, перебил его Ботезату. - Вот вы пишите...
- Простите, Федор Михайлович, - вмешался Синчер. - Я очень внимательно знакомился с письмом Тимофея Павловича и помню, что он в конце письма прямо так и написал: "Хочу обратить ваше внимание". Вон там, в конце. Посмотрите, пожалуйста. - Синчер привстал, пытаясь дотянуться до письма, лежащего перед Ботезату. Тот начал снова смотреть в письмо и через некоторое время произнес:
- Да. Вот здесь. Так и написано. Правда. Ну хорошо. Допустим, пусть будет "обратить внимание". А почему тогда вы обращали их, а не наше внимание? Они же все равно письмо нам переслали? Значит и они вас поняли, как и мы? Да вы посмотрите! Вот здесь красным подчеркнуты те места, где вы приводите примеры из отраслей! - он протянул письмо Тимофею Павловичу.
- Я не знаю, Федор Михайлович, как они там наверху поняли меня! Тимофею Павловичу стало жарко от того, что ему приходится доказывать что белое - это белое. Не замечая, он начал часто выбрасывать из себя слова, не совсем подходящие для этого учреждения, голос его повысился. Синчер тут же положил ему на плечо свою руку. Тимофей Павлович немного притормозил.
- Я хотел сказать, - после непродолжительной паузы заговорил Тимофей Павлович, - что если оставить в стране существующий порядок разработки автоматизированных систем управления, то возможны события, приведенные в моем письме. Вам тут на месте, Федор Михайлович, этой проблемы не решить. Она - на уровне тех, кому я и писал свое письмо.
- Да, да, Федор Михайлович! - быстро вступил в разговор Синчер. - Я полностью согласен с мыслью Тимофея Павловича. Поэтому он и написал, так сказать, через голову. А...
- Допустим, что так, - Ботезату поднял руку, останавливая Синчера. - Допустим. Но отвечать-то на письмо нам все равно надо! Нам! Что же мы ответим? Если бы вы, Тимофей Павлович, дали бы нам конкретные факты нарушений в отраслях... А не в общем, как вы пишете...
- Я же не ревизор, Федор Михайлович! - снова вспыхнул Тимофей Павлович. - Нарушения там есть постольку, поскольку существующая система проектирования АСУ не позволяет взять под машинный контроль основные участки учета и управления. А это позволяет работникам отраслей вести себя определенным образом. Измените систему - исчезнут и нарушения. В этом - мое предложение. Совет, если хотите. Но никак не жалоба. А совет подкреплен примерами.
- Ну а я? Что я-то отвечу на ваши советы? - Ботезату начал перебирать в руках листки письма. - Что я отвечу?
- Ответьте так, как есть на самом деле. Соберите специалистов, посоветуйтесь. Я уверен, что они поддержат мою точку зрения. По крайней мере, мнение Ивана Андреевича по этому вопросу вам уже известно. Как, Иван Андреевич?
- Я свое мнение уже высказал, - степенно ответил Синчер. - Но в отношении ответа тут не все так просто. Даже очень непросто.
- Ну, добро, товарищи, - поднялся из-за стола Ботезату. - Добро. Вашу позицию, Тимофей Павлович, я понял. Так и доложу Петру Гавриловичу. Если ко мне нет вопросов, то на этом закончим. Да, одну минуточку, - спохватился он, - позвоню Петру Гавриловичу. Может он пожелает с вами поговорить. - И начал набирать номер телефона. Тимофей Павлович явно без восторга ожидал результатов разговора Ботезату со своим начальником.
- Петр Гаврилович! - приглушенно заговорил в трубку Ботезату. - Тут у меня Иван Андреевич с товарищем Вологодцевым. Ну...тот, который жалобу в Москву написал... Да! Он! Но он, оказывается, имел в виду... Ясно, Петр Гаврилович! Ясно! А вы не хотели бы с ним поговорить? Ясно, Петр Гаврилович, ясно! - лицо Ботезату сразу приобрело прямо-таки землистый оттенок, и он осторожно положил трубку на рычаг. - Занят, не может сейчас, - хмуро пояснил он и начал выходить из-за стола. - Ну, всего доброго! - он подал руку Тимофею Павловичу.
Попрощавшись, Тимофей Павлович вышел в коридор. Следом вышел Синчер.
- Да... - заговорил он. - Это к лучшему, что Петр Гаврилович занят. Очень к лучшему. Видишь теперь, что получается из твоих благих намерений?
- Да вижу уже, будь оно неладно! - процедил Тимофей Павлович. - Не захочешь больше писать! Пусть оно все кругом горит синим пламенем! Им - не нужно. А я бьюсь за их идеи! И мне же за это - по зубам! Неплохая логика, а?
Подошли к лифту. Синчер нажал кнопку вызова. Молча подождали, когда двери раскроются. Также молча пожали друг другу руки и Тимофей Павлович вступил в тесное пространство кабины. Двери бесшумно за ним закрылись.
4.
Минуло несколько дней. Неприятный осадок, оставшийся у Тимофея Павловича после всех разъяснений, которые ему пришлось давать всем по поводу его письма в Москву, начал понемногу рассасываться. Однако все эти дни сильно щемило сердце.
- Устаю, наверно, на работе, - жаловался он жене. - Да и погода еще скачет.
- Погода здесь совсем ни при чем, - грустно улыбалась в ответ жена. А работа - тем более. Вспоминает кто-то тебя недобрым словом. Ох, вспоминает! Ты, часом, ничего такого не выкинул, как ты это умеешь?
- А что я по-твоему могу натворить? - тут же вскидывался Тимофей Павлович. - Человека, что ли, убить7
- Тебе муху-то и ту жалко прихлопнуть, горе ты мое горемычное! Не то что человека какого! Но что-нибудь выкинуть эдакое - вот на это ты большой мастер! Уж я-то тебя изучила, слава Богу. Наизусть! Тебе всегда больше всех надо! Вечно ты - впереди всех с красным флагом! Когда ты угомонишься, наконец?
- Ну, поехала, провидица, - прятался за газету Тимофей Павлович, но сам не переставал удивляться какому-то сверхестественному женскому чутью. Особенно - на беду, ожидавшую близких.
Прямо с утра в четверг Тимофея Павловича вызвал к себе главный и они вдвоем почти до обеда изучали входные документы очередной АСУ, которая находилась сейчас в разработке. Когда Тимофей Павлович уже было собирался уходить, вошел директор. Хмурый. Поздоровались.
- Ты, Вологодцев, думал бы побольше перед тем, как письма-то писать, - начал он, садясь напротив Тимофея Павловича. Тимофей Павлович ничего не ответил и, глядя на директора, ждал, что за сим последует.
- Тебе что некому писать? - продолжал директор. - Так заведи себе какую-нибудь бабу и пиши ей! Отводи с ней душу! А ежели еще не успел завести, то мы тебе путевку достанем куда-нибудь на юг. Поежай да постарайся уж в этом смысле. Одна польза от такого дела всем будет.
- Да я уж второй отпуск дома сижу, - зачем-то произнес Тимофей Павлович.
- Вот, вот! Оно и видно! - обрадовался директор. - Маешься! А из-за тебя кто-то должен шишки получать! Уже чуть ли не весь город знает, что у меня свой собственный писатель завелся! АСУ его, видите ли, не устраивает! Вся страна идет не в ногу, а он один - в ногу! Герой какой! Сейчас вот из министерства мне звонили: откуда я, мол, набираю таких шустрых работников? Намекают, дескать, плохо руковожу, раз у таких, как ты, много свободного времени остается.
- И что же ты им ответил? - они с директором были на "ты": вместе учились в одном университете и вместе же начинали работать.
- Что ответил? То и ответил: исправлюсь, мол. Виноват.
- Ну и как же ты думаешь исправляться? - Тимофея Павловича начинала забирать злость. - Ну как?
- Что ты занукал? Исправлюсь! Не твоя забота! Ты вон лучше поменьше пиши, тогда мне и исправляться не надо будет! - и вышел.
- Вот еще одному человеку из-за меня достается! - уже раздражаясь на себя, подумал Тимофей Павлович. - Что же это делается-то? Стараешься на работе - начинают коситься. Всем с тобой хлопотно. И подчиненным, и начальникам. Вот и с предыдущей работы ушел: руководство министерства замучили анонимками и звонками. А самого - комиссиями, на которые у нас всегда были большие мастера! За один год умудрились прислать двадцать одну комиссию! "Ты слишком рьяно взялся за дело! Осади! - сказал ему по-дружески председатель одной из московских комиссий. - Иначе придется уйти". Но он, Тимофей Павлович, был не в меру упрям, верил в правоту своего дела да и комиссии, как ни бились, ничего не находили и всегда вынуждены были писать положительные отзывы о результатах его работы. Но в конце концов получилось именно так, как и предсказывал ему опытный москвич: однажды вызвало его к себе руководство министерства и начало издалека. Вот вы, де, хороший специалист, дело свое в совершенстве знаете, умело руководите большим коллективом... В общем, было сказано много теплых слов. "Как на похоронах", - подумал тогда он. И оказался прав. Это самое руководство после стольких теплых слов предложило ему перейти к самому себе в замы. Так, дескать, будет лучше для всех. Иначе - уже в пути очередная самая высокая комиссия из Москвы и ему, руководству, на этот раз уже не выстоять. Да и райком партии поставил условие.
Тимофей Павлович страшно обиделся. Для чего же он так старался? Для кого? Для себя? Да что он, кроме неприятностей, на этой работе видел? Вон в других подобных организациях начальники отделов намного больше получают, чем он, директор, здесь! И почет им кругом за хорошую работу! А здесь кроме ежедневных выволочек, прямых или косвенных, ничего не видишь! Короче - он тут же написал заявление "по собственному".
- Не порите горячку! - пыталось как-то вразумить его удивленное руководство, на памяти которого никто не покидал насиженного места и добровольно уходил из номенклатуры. - Не порите горячку! - уговаривало его руководство. Но он был неумолим.
Назначили нового директора, человека в этом деле совсем не сведующего, но более опытного в делах житейских. Может быть, даже более доброго, что ли. А Тимофей Павлович с большим трудом, почти просрочив непрерывный стаж, кое-как устроился на теперешнюю свою работу: помогло лишь то, что в этой организации до этого три года потратили на разработку АСУ, ничего не сделали, истратили полтора миллиона казенных денег, а в итоге многие разработчики разбежались вместе с главным ответственным - директором. И хотя уволенных, да еще по требованию райкома партии, таких, как он, бывших директоров никуда никто не брал, ситуация была катастрофическая и делать было нечего. Тимофея Павловича, зная его бешенную работоспособность и организаторскую хватку, скривясь взяли. Вновь назначенный вместо него директор в свой первый год работы трижды лично приезжал к Тимофею Павловичу на его новую работу и уговаривал вернуться и пойти к нему в замы. И трижды получал от Тимофея Павловича вежливый отказ, несмотря на то, что уже при их первом знакомстве он понравился Тимофею Павловичу. Было видно, что этому уже умудренному опытом и годами человеку трудно будет на новом месте. Но Тимофей Павлович ничего с собой уже не мог поделать и никакие блага не могли изменить его поведение.
На новом месте, как было сказано выше, Тимофей Павлович начинал трудно. Здесь работали на новой технике, не знакомой ему, так как его прежнее министерство было намного беднее нынешнего и не могло закупать современную технику. Все предстояло осваивать прямо на ходу. Положение усугублялось еще тем, что коллектив отдела, которым ему предстояло руководить, по многим причинам был почти развален, имел чемоданное настроение и ждал удобного случая, когда можно бросить все и разбежаться. А руководство не понимало, что и как должен был делать "этот отдел умников", на котором лежала вся работа по созданию АСУ. А эту систему надо было сдать в эксплуатацию ровно через два месяца.
- Я и не знал, что программы так трудно делать, - скажет потом честно провалившийся на АСУ директор на прощальном банкете в честь своего номенклатурного перехода "на другую работу". Скажет честно и честно уйдет на повышение в министерство. Следом за ним, правда уже без прощального ужина, поскромнее, честно сбегут почти все сотрудники его нового отдела, и Тимофей Павлович останется только с одним "старичком" и четырьмя недавно прибывшими молодыми специалистами, которые ничего подобного в глаза никогда не видывали... В конце концов все наладится и Тимофей Павлович за первые три года работы получит четырнадцать благодарностей от нового руководства организации, получит несколько почетных грамот и "повисит" на доске почета. На четвертый год, когда угроза срыва работ, постоянно довлеющая над коллективом все эти годы, наконец-то минет, наметится небольшая трещинка в отношениях Тимофея Павловича с теперешним директором, три года назад начавшим в новой для себя должности вытягивать организацию из прорыва. Их разногласия возникнут из-за разных скоростей вращения вокруг своих задач: Тимофей Павлович продолжит вращаться все с той же скоростью, что и в первые три года, а директор, устав от бешенной гонки, включит пониженную передачу. Нововведения Тимофея Павловича, связанные с риском, с беспокойством, с порчей отношений с некоторыми сотрудниками начнут раздражать директора: в кои-то годы наступило относительное спокойствие, а тут снова трать нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются...
Около трех Тимофея Павловича вызвали к телефону. Он недоуменно пожал плечами: ему почти никогда никто не звонил. Даже жене и дочери он запретил по пустякам звонить на работу: в организации всего один телефон и если каждому начнут звонить... Звонил Синчер. Вероятно от волнения, он не говорил, а почти кричал в трубку. Повидимому, боялся, что Тимофей Павлович его неточно поймет. Звонил от самого Петра Гавриловича, шефа Ботезату. Тимофею Павловичу надлежало срочно прибыть к Петру Гавриловичу, который хочет с ним побеседовать. Указания на сей счет директору даны. Пропуск заказан. Все. Разговор происходил в кабинете директора и когда Тимофей Павлович положил трубку, директор вынул из кармана несколько талонов на такси и протянул их Тимофею Павловичу:
- Давай, писатель, только побыстрей.
- Ладно, не горюй, - улыбнулся в ответ Тимофей Павлович. - Мне ведь попадет, не тебе. Тебе - не за что. - И повернулся было уходить. Но тут взгляд его остановился на одном из балконов жилого дома напротив. Там на девятиэтажной высоте плотный мужчина в пыжиковой шапке брезгливо держал за лапки отчаянно трепыхавшегося петуха и спокойно прилаживал топором его обреченную голову на стоявшее у железной решетки круглое полено...
1983 г. Кишинев[Author ID1: at Sun Mar 13 09:48:00 2005 ]
Бешеные
Сон был по-настоящему пенсионным: во сне ОН мыкался по разным фирмам в поисках хоть какой-нибудь работы, даже не вспоминая при хозяевах, что ОН классный программист и что знает систему управления чуть ли не десятком отраслей: от самого нижнего звена до аппарата министерства. ОН готов был клеить коробки или сидеть "на телефоне", быть "диспетчером со знанием компьютера" или посудомойкой, водителем категории "В" или реализатором какого-нибудь Гербалайфа и многим еще кем вплоть до переводчика с пяти иностранных языков или до журналиста, но... Работодатели бегло смотрели на НЕГО и, не задавая никаких вопросов, не углубляясь ни в какие детали ЕГО знаний и способностей, быстро говорили "нет" и отворачивались, отворачивались, отворачивались равнодушно и, не обращая ровно никакого внимания на НЕГО, продолжавшего еще некоторое время потерянно стоять перед ними, занимались своими более важными, чем судьба этого пожилого и далеко несытого человека делами. Массово требовались "парни", "охранники до 35 лет", "юные леди б/к", т.е. без комплексов, массажисты и тем более массажистки, банщики, агенты по рекламе, повара "на интересную работу" и прочий подобный молодой и нетребовательный люд. Не нужны были только те, кто "в возрасте". Ни на что. Ни на какую работу. С любыми знаниями, способностями и умением. Едва завидев их на своем пороге, новые хозяева жизни мгновенно соображали, о чем дальше пойдет речь и, не давая вошедшему даже рта открыть, холодно бросали в его сторону: "У нас для вас ничего подходящего нет".
Потом ОН оказался на каком-то высоком обрыве. И не один, а с группой каких-то неизвестных людей. Ни молодых, ни старых. Внизу под обрывом гремел стальными колесами по изогнутым рельсам длинный-предлинный товарняк : теплушки, теплушки, теплушки... В окне одной из них, расположенном почти под самой ее крышей и забитом частой металлической решеткой, ОН увидел себя маленького, хватающего широко раскрытым детским ртом "свежий воздух" - черную вонючую гарь натужно сипевшего на подъеме паровоза, перемешанную с мокрым белым паром.
- Боже мой, - подумал ОН, - неужели сейчас война? Я же уже на пенсии! Но отчего так хочется есть, как в той, военной, теплушке? И дышать нечем... ОН начал выбираться из группы что-то галдящих людей, стараясь не свалиться с обрыва и не сводя при этом своих глаз с гремящего там, внизу, бесконечного товарняка. Теплушка с его детским лицом в зарешеченном квадратном маленьком окошке стояла на месте, несмотря на остальные бешено мчащиеся вагоны. ОН молча смотрел на себя маленького и почувствовал вдруг, что дышать стало намного легче и уже не пахло паровозной гарью. - Там же мать моя внизу, в теплушке, - подумал ОН. - На двух огромных узлах и чемодане, у самой буржуйки. А вокруг - не продыхнуть: женщины и дети, женщины и дети. Узлы, узлы, узлы. Детский плач и материнские стоны... Да нет же! Мать давно умерла! Девять лет назад! Сегодня же была как раз годовщина ее смерти! А я начал забывать ее лицо!
ОН попытался свеситься с обрыва и через себя маленького заглянуть внутрь вагона. Хотел увидеть свою мать молодой. Но вагон вдруг сильно дернулся и кто-то здесь, на вершине обрыва схватил ЕГО за руку:
- Не надо, - сказал этот "кто-то", - не надо. Не положено этого делать. Пусть едет. А мы поедем в Баку. Работать.
- В Баку? - ОН аж передернулся. - Зачем в Баку? Там же мать моя похоронена! Поезд туда разве идет?
- Какой поезд? - спросил "кто-то".
- Ну, вон тот, в котором я маленький еще. Там, где мама молодая.
- Нет, - махнул рукой "кто-то". - Этот поезд сначала поедет на Кубань, а потом - в Кишинев, в Молдавию.
- Так я же сейчас сижу на обрыве в Молдавии, - подумал тут же ОН и услышал, как кто-то ЕГО окликнул: Тимофей Павлович! Так ты едешь с нами в Баку?
ОН вдруг вспомнил, что в ЕГО кармане лежит письмо от его старого школьного друга Тольки Гулина, Рыжего, которое ОН получил только вчера. Рыжий писал, что живет в Баку и хочет, чтобы ОН, Тимка, к нему приехал: у них работы для пенсионеров навалом.
- Захвати своих друзей, - приписал в конце письма Рыжий, - работы хватит всем.
- Ребята! - закричал ОН, увидев вдруг разбегающихся своих друзей, - Ребята! Давайте позвоним Толяну! Он всех нас там устроит на работу! Дайте мне кто-нибудь "мобильник"!
- Да со Старой Почтой никакой связи нет! Как всегда! Забытый Богом район! - перед НИМ стоял какой-то длиннобудылый сухой старик. - Да и Рыжий-то пропал еще в 1963-м! Ты что совсем память потерял?
- Я? А вы... То есть... Это ты, Сашка? Янученко? Янкель?
- Ну, вот наконец-то! Продуло твои старые мозги! Друг называется!
- Так сорок лет же почти прошло! А Рыжий ведь точно потерялся! Помнишь, Янкель, как мы все спрашивали с тобой его жену? Мол, куда он подевался? Мать его померла, он их домишко продал и решил деньги за дом отвезти своему дяде, брату матери, в Закарпатье. Сел в поезд и - с концами. Никакие всесоюзные розыски его так и не обнаружили нигде...
- Но тогда чего же ты хочешь ему звонить домой на Старую Почту? - Янкель насмешливо смотрел на НЕГО. - Ты, Тимка, точно совсем из ума выжил! Письмо же, ты сказал, из Баку? Причем тут Старая Почта в Кишиневе?
- А там, на Старой Почте, наконец, открыли недавно целых два маршрута троллейбуса! - радостно вспомнил ОН. - Помнишь, как мы втроем, ты, я и Рыжий об этом мечтали?
- Да, да! - усмехнулся Янкель, - не прошло и пятидесяти лет...
Вдруг в глаза ЕМУ ударил сильный луч яркого света и круча, на которой они находились, мгновенно стремительно рухнула куда-то вниз... ОН от неожиданности охнул и сна, такого тяжелого сна, как не бывало: сквозь неплотно прикрытое старой желтой тяжелой шторой окно прямо в глаза било яркое и жаркое летнее солнце. Часы на стене напротив показывали девять утра. Со стороны кухни слышался шум посуды: видимо, жена уже давно отзавтракала одна и отмывала следы своей поздней трапезы.
- Ну и сон, - подумал ОН, отворачиваясь к стенке таким образом, чтобы солнышко его не доставало. - Ну и сон! Чего только не приснится тебе, когда ты - на пенсии! Хотя в отношении работы - будто все наяву. А что касается Рыжего... И матери... Вчера действительно минуло ровно девять лет со дня ее смерти, а я, подлец, забыл все начисто. Ходил целый день, слонялся по квартире, смотрел чемпионат мира по футболу, а про свою родную мать - ни-ни. Действительно, негодяй! Похоже, что она мне "оттуда" слегка об этом намекнула. А Рыжий? Наверно, и он "там"? И давно. С тех пор, как пропал. И тоже о чем-то напоминает? Только вот о чем?
И ОН вдруг сразу вспомнил, о чем. И похолодел.
- Они "там" все знают о делах и делишках наших земных! Все-все! Не укроешься! Не "позабудешь"! - и вся картина почти что пятидесятилетней давности предстала перед ним точно на широкоформатном экране, во всех мельчайших подробностях и деталях...
... Это была вторая после приезда их семьи в Кишинев снятая ими квартира. Даже не квартира, а комнатка в типично крестьянском домике в глубине самой-самой магалы на Старой Почте. Замысловато петляющая узкая, с глубокими выбоинами от часто проезжающих здесь жутко скрипящих каруц, запряженных ленивыми светлыми, желтого песка, волами улочка упиралась своими крутыми боками в безжалостно грязные плетни, охранявшие от нее маленькие кособокие хатки под красной черепицей, в основном крутого известково-синего цвета. Ширина улочки была ровно в одну каруцу, так что когда ОН поднимался по ней к себе домой и на его пути встречался какой-нибудь "воловий экипаж", ЕМУ приходилось немедленно искать глазами вход в ближайший дворик, т.к. к тому от "трассы" ответвлялось примерно полутораметровое пространство. ОН тут же прижимался на этом пятачке к всегда пахнущему кизяками плетню и таким образом пропускал всю воловью процессию. Все улицы в те времена на Старой Почте не имели названий и были под номерами: первая, третья, седьмая, двадцатая... ОН и сейчас их так называет, когда оказывается в тех местах. Имела свой номер и эта улочка: пятый. Малюсенький домик, где они поселились всей семьей, был разделен посередине на две комнатушки совсем крошечной прихожей, из которой прямо по ходу можно было попасть в такую же малюсенькую кухоньку, а налево располагался вход в их комнатенку. Направо, точно по симметрии, располагалась точно такая же комнатушка, в которую вела узкая, до половины сверху застекленная скорее дверца, чем дверь. Это помещеньице снимала одна молодая семья: муж с женой и маленьким ребенком. Муж - огромный, словно наскоро отесанный могучий дуб, белорусс дядя Миша. Его жена - маленькая вертлявая и никогда не умолкающая, когда ей случалось быть дома, черноглазая украинка тетя Валя. Сынок их, Мишка, которому к тому времени уже стукнуло два с половиной года, по такому солидному возрасту был оставляем один дома "на хозяйстве", пока родители отдавались работе, поднимая, на ноги, как и многие им подобные, послевоенную разрушенную республику. ОН до сих пор ярко помнит, как приходя домой из школы, едва вступив в прихожую, всегда заставал одну и ту же щемящую картину: маленький Мишка, весь в засохших и свежих соплях и слезах молча глядел на НЕГО сквозь зарешеченное толстыми железными прутьями оконце в двери, топчась своими ножками на предусмотрительно оставленной матерью для подобной цели табуретке, матерью, задавленной погоней за куском хлеба. Хозяйка домика в нем не жила, поэтому Мишка был единственным живым существом, постоянно глядевшим в полутемное пространство прихожей из-за железных решеток с раннего утра, когда все убегали на работу, и до трех часов, когда ОН приходил из школы. До прихода с работы тети Вали ОН как-то пытался развлечь малыша через решетчатое тусклое оконце, строя ему всякие уморительные рожицы и разные "козы". Однако в большинстве случаев вместо того, чтобы хоть чуть-чуть улыбнуться, ребенок начинал отчаянно реветь и звать на помощь свою маму. В такие минуты ОН молча уходил в свои "апартаменты", усаживался на кровать, подбирая под себя ноги - от земляного пола постоянно тянуло холодом и сыростью - и беспомощно смотрел куда-нибудь в одну точку: ему тоже хотелось реветь и звать свою маму на помощь. Но мама приходила с работы поздно, заходя предварительно в ясли за ЕГО маленьким сводным братом, а потом еще - в полупустые магазины. А когда уже переступала порог их комнатенки, дело редко обходилось без одного-двух крепких подзатыльников: то ОН не сделал то-то, а то что либо сделал да не так. Повод находился всегда. Отчим же приходил очень поздно, когда они уже давно находились в своих постелях: ОН - в небольшой кроватке, приставленной к единственному оконцу комнатенки, сводный братик - на крохотном деревянном топчанчике, наспех сколоченном отчимом из горбыля и помещенном в ногах ЕГО кроватки, мать - на полу, на земляном полу, на котором тоже кое-как под постелью был разложен горбыль, поверх которого было набросано какое-то ненужное тряпье, а уже на нем - два матраса, а поверх - перина. Отчим, как всегда, заявлялся "хорош", на злой шепот матери огрызался, посыпая всё вокруг через слово отборным ленинградским матом. Перепалка продолжалась и в постели, куда отчим нырял сразу же, как только ему удавалось на некоторое время отбиться от матери. Но та его и там доставала. Затем наступала небольшая пауза, потом - некоторое шевеление и... поехало! Слышно было, как отчим безо всякой предосторожности вовсю "пашет". Это дело часто продолжалось настолько долго и громко, что мать не выдерживала и возмущенно, как ЕМУ тогда казалось, прерывисто шептала:
- Ваня, кончай! Ну что ты меня мусолишь? Ты же не хочешь уже! Дети же не спят!
Но "Ваня", ни на что не обращая внимания, пыхтел и пыхтел дальше, как паровоз...
Прожили они на этой квартире всего одну зиму: весной померла старуха-хозяйка, которую ОН и видел-то всего однажды. Тут же мигом объявились родственники-наследники и квартирантов в пылу дележа выставили на улицу в один день. Мать с отчимом бегали, взмыленные, по магале в поисках хоть какого-нибудь пристанища, а ОН с маленьким братишкой сидел на узлах, сложенных в кучу тут же во дворе. Братишка громко ревел и звал маму, а ОН зло смотрел на деловито снующих туда-сюда незнакомых людей. В конце концов все встало на свои места: они поселились на новой квартире, а к осени получили участок под индивидуальное строительство там же на Старой Почте. Наспех, убегая от ноябрьских холодов, они с отчимом слепили на своем уже участке небольшую под толевой крышей времянку - домик из кухоньки и небольшой комнатки, - настелили везде дощатые полы, сложили из красного кирпича печурку, затопили ее и... Жизнь казалась царской...
Этой же осенью, будучи в восьмом классе, ОН познакомился и подружился с Рыжим. Сначала, придя после каникул в класс, ОН не обратил особого внимания на новенького, сидевшего от НЕГО далеко, в другом конце класса. Это был обыкновенный конопатый белобрысый мальчишка одного с НИМ роста, ничем в классе не выделявшийся, спокойный и тихий. Однажды на уроке литературы учительница задавала на дом учить монологи из "Горе от ума". На каждый монолог назначалась пара учеников. ЕМУ в пару попался этот конопатый. Когда они вдвоем стали договариваться, как вместе учить монолог и определяли место, у кого из них дома это сделать, оказалось, что "Толик" - так он себя назвал при их знакомстве - тоже живет на Старой Почте.
- Где? - тогда спросил ОН у конопатого.
Тот назвал адрес. ОН обомлел: этот был как раз тот самый домик, где они бедовали вместе с маленьким сопливым Мишкой и его родителями и откуда их всех так беспардонно выставили на улицу. - Ничего в жизни случайного не бывает, - скажет впоследствии себе ОН, к тому времени уже "отягощенный" не только знаниями математики, физики и философии, но и прожитыми годами.
ОН пришел к Толяну домой больше из любопытства. Их бывшая комнатка осталась нежилой: новыми хозяевами там было устроено нечто вроде кладовки. На земляном полу валялся всякий хлам, под стеной напротив входной двери стоял верстак, над которым висели разные столярные инструменты. Справа от двери, в углу валялись какие-то полусломанные шкафчики, а у оконца, где когда-то стояла ЕГО кроватка, твердо стояла пузатая железная бочка с застоявшейся водой. Новые хозяева, родители Рыжего, купили этот домик, приехав откуда-то из-под Якутска. Отец был столяром. Был он очень худ, бледен, ходил всегда сгорбленным, с постоянной папироской во рту, имея тут же запасную за ухом. Он был намного-намного старше своей совершенно молоденькой симпатичной и бойкой жены тети Клавы, толькиной матери. Тетя Клава работала кондуктором на трамвае, занимая по тем временам довольно престижное положение в кишиневском обществе: в маленьком городе имелось всего два трамвайных маршрута и кондукторов народ всех знал в лицо. Кроме известности, место давало немалые свободные деньги, отчего Рыжий каждый день получал приличные суммы на карманные расходы. Благодаря монологу Чацкого, Толян и ОН сдружились настолько, что, как это бывает в таком возрасте, дневали и ночевали друг у друга, незаметно для них самих формируясь с течением времени в зрелых и крепких парней. Рыжий вымахал в высокого чубастого худощавого малого, а ОН остался ниже Толяна на голову, но стал крепкого телосложения. Наступила последняя предармейская осень. ОН к тому времени дважды пытался поступить в ВУЗ и оба раза неудачно. Первый раз, чувствуя и видя, как нахально "валит" его экзаменатор на любимом ИМ школьном предмете - химии, по которому у НЕГО всегда были одни пятерки, ОН не выдержал и швырнул прямо в лицо тому подонку экзаменационный лист... Второй раз по настоянию матери ОН отдал документы в ВУЗ, в который не хотелось идти. За полмесяца до начала экзаменов мать укатила со своим новым мужем в отпуск, оставив ЕМУ для успешного поступления какую-то записку к одному влиятельному лицу. ОН в таких условиях не стал готовиться, никакой записки никому не передавал и нехотя сдал экзамены на одни тройки. Решил, что осенью уйдет в армию. К тому времени он работал на одном химическом производстве, где из нарезанного тонкими длинными лентами светлосерого каучука с помощью авиационного бензина варил клей, перемалывая эту смесь в устройстве, подобном бетономешалке. Эта "бетономешалка" от постоянной натуги всегда дышала нестерпимым бензиново-резиновым жаром. Рыжий ушел еще после девятого класса работать на столярное производство: пошел по стопам отца, который к тому времени уже помер. Они остались вдвоем с тетей Клавой.
Однажды, договорившись с Толяном встретиться у него дома, чтобы оттуда пойти на танцы, ОН пришел к другу в назначенное время. Постучал. Долго никто не открывал, и ОН уже собрался было уходить, как вдруг дверь приоткрылась и из-за нее высунулась мокрая голова тети Клавы.
- Заходи, - позвала она, - я сейчас.
ОН вошел, закрыв за собой дверь, в коридорчик и направо - в их единственную с Толькой комнатку. Комнатка была пуста, и ОН присел за ближайший край небольшого стола, одним своим концом упиравшегося чуть ли не в порог входной двери. Табуретка, на которую ОН опустился, знакомо скрипнула. Стал ждать. Минут через десять вошла тетя Клава в накинутом, чувствовалось, на еще мокрое тело голубеньком халатике. На голове у нее красовался тюрбан из красного махрового полотенца. На малиновом в мелких капельках лице были видны следы недавней бани. ОН мельком взглянул на тетю Клаву, а та, не дав ему и рта раскрыть, пояснила, улыбаясь и садясь за противоположный от него край стола:
- Вот баньку себе устроила в вашей бывшей комнате. Красота! А Толика нет. Ушел куда-то. - И на его вопросительный взгляд весело добавила: - Да кто вас знает, где вы сейчас, молодые, бродите! У вас - пора! Подожди немного, если хочешь. Договаривались, поди? Раз договаривались, может, придет, - сама себе поставила вопрос тетя Клава и сама же на него ответила, развязывая свой тюрбан и принимаясь расчесывать черные мокрые спутавшиеся косички волос. Волосы никак не поддавались серому костяному гребню, и тетя Клава, ухватив пучок их одной рукой и наклонив свою головку набок, другой рукой с силой пыталась их хоть как-то разодрать. Халатик у нее при этом немного разъехался в разные стороны и ОН почувствовал, что по ЕГО спине пробежали небольшие мурашки. Потом еще, еще... Потом разом заломило все внизу. ОН с большущим усилием отвернулся, чтобы смотреть в окно. Тетя Клава о чем-то щебетала. ОН, видимо, как-то судорожно потянул на себя лежавшую на столе свою левую руку, и тут же услышал звук чего-то упавшего на пол. Догадался, что упала школьная линейка, которую ОН перед этим вертел в руках от нечего делать. Машинально ОН наклонился, чтобы ее поднять. Линейка действительно лежала рядом со столом на полу. Даже - почти под столом. Когда ОН дотянулся до линейки и уже собирался было выпрямиться, взгляд его упал... О Боже! ОН еще не знал до сих пор женщин. ОН их даже никогда не касался. Нет, ОН, конечно, видел их на пляже. Но там были не они, не женщины. Там были загорающие, отдыхающие, какие угодно. Но только не женщины. Пляжные у него никогда не вызывали никаких мужских эмоций...
Тетя Клава, видимо, так увлеклась войной со своими мокрыми волосами, от которых еще шел пар, что... ОН увидел, что халатик свисал по бокам ее нешироко расставленных белоснежных полных красивых ножек, еще дышавших ароматом только что принятой баньки. Ножки были расставлены ровно настолько, чтобы изнутри выглядывало маленькое мохнатенькое черненькое... волшебство... ЕГО, увидевшего все это так близко... это... чуть не разорвало на части. Все у НЕГО так восстало, так напряглось, так заломило, так... Рассудок ЕГО был близок к помешательству. ОН еле-еле поднялся, чтобы снова сесть на табуретку, но с первого раза ЕМУ это не удалось. Неведомая силища тянула ЕГО туда, вниз, под стол... К этому волшебству... Чтобы его видеть... Чтобы его трогать...Чтобы им обладать... ЕГО всего ломало... ЕГО неимоверно корежило ... ОН задыхался...
Все же ОН пересилил это наваждение и твердо уселся на свою табуретку. Начал, стараясь казаться совершенно спокойным, смотреть в окно. Но тетя Клава, похоже, все же заметила его состояние: наскоро запахнула свой халатик и, придерживая его одной рукой и не говоря ни слова, быстро вышла на кухню, вход в которую был из коридорчика.
...Появилась она снова в комнате минут через двадцать. Причесанная, одетая в свой обычный, не банный, домашний халат, застегнутый на все, какие только были на нем пуговицы. Холодно сказала: - Возможно, Толик придет сегодня поздно. Похоже, что забыл о вашей встрече. Поди, у какой-нибудь девчонки сидит под забором...
ОН все понял и заторопился: - Да, да! Забыл повидимому. Передайте, что я завтра в это же время приду. Так я пошел...
- Хорошо, - не меняя тона, ответила тетя Клава и направилась впереди НЕГО закрыть за НИМ дверь.
Все последние сутки ОН был, словно очумевший: спал и видел перед собой черненькое пушистое волшебство, ходил и ощущал его в своих деревянных руках. Работал, и вместо запаха авиационного бензина и раскаленной резины ощущал банный аромат чуть расставленных нежных белых ножек. В течение всего дня ЕГО бил легкий нервный озноб. День же нестерпимо медленно тянулся. ОН ждал часа, когда снова окажется... В общем, ОН ждал и торопил время.
После работы, прибежав домой, ОН наскоро помылся, переоделся и с куском недоеденного хлеба во рту выскочил из дома.
- Когда придешь-то? Поздно? - крикнула ему вдогонку мать.
- Не знаю, - на ходу бросил ОН, - не знаю.
ОН почти не помнил, как по дороге к Рыжему купил бутылку "Вермута", сунул ее в боковой карман пиджака. ОН только все время молил Бога, чтобы Рыжего не оказалось в этот момент дома. И действительно, того дома, словно по заказу, не оказалось.
- Не дождался тебя твой дружок, - на этот раз весело сказала тетя Клава. - Уже час, как убежал. Сказал, что что-то срочное. Что у него там такого срочного может быть? - развела в недоумении руками она. - Да чего же ты стоишь? Проходи, отдышись. Потом и пойдешь. Чаю хочешь?
- Чаю? - переспросил ОН, торча колодой в дверях. - Чаю? Конечно, конечно! - подтвердил он одними губами, плохо слушавшимися его. - Чаю я попью.
А сам прикрывал рукой полу пиджака, чтобы не было видно, что в кармане - бутылка. Тетя Клава тут же поспешила на кухню готовить чай, а ОН прошел в комнату, уселся за стол на вчерашнее место, осторожно вытащил бутылку из кармана и поставил ее справа под табуретку: припрятал до поры. Стал ждать. А Бога, как это обычно бывает, забыл поблагодарить за все. Минут через десять появилась тетя Клава. На ней был уже вчерашний голубой банный халатик, полузапахнутый и закрепленный узким мохнатым пояском. Она принесла пыхтящий чайник, две чашки и поставила все это на стол. Затем на столе появилась сахарница, две чайные ложечки, тарелочка с горкой печенья на ней. И совсем уж неожиданно для НЕГО - плоская тарелка с ломтиками копченой колбасы и выложенными по краям черными ягодками маслин. ОН молча и смирно сидел и никаких вопросов не задавал: в нем все бродило еще со вчерашнего вечера, и ОН единственно, что пытался сделать, так это не дать случиться взрыву. По крайней мере, раньше времени.
Наконец, тетя Клава тоже уселась на вчерашнее место, и они оба приступили к чаепитию... Чаевничали молча, не дотрагиваясь ни до какой еды. ОН нервно смотрел в чашку на дымящийся темнокоричневый чай, изредка его потягивая. Тетя Клава тоже молчала, но ОН чувствовал своими лопатками, что она поглядывает на НЕГО. Движение тока крови внутри НЕГО начало ускоряться. Постукивало в висках. Обо всех остальных частях тела и говорить не надо было. ЕМУ казалось, что кое-где что-то вот-вот затрещит от пере...
- Да ты бери-ка вон колбаски, маслинок, - к месту нарушила молчание тетя Клава. - Бери, бери. Не стесняйся. Толик, поди, тоже у вас кушает иногда?
- Кушает, - в тон ей буркнул ОН. - Какие-такие маслины к чаю? Вон... у меня... Вон... у меня... есть кое что к маслинам! - Вдруг осмелел ОН, быстро сунул руку под табуретку и выставил на стол принесенную им с собой бутылку "Вермута". И посмотрел при этом прямо в глаза тете Клаве.
- Ой! И правда к месту! - без лишних вопросов не удивилась тетя Клава. - Все как раз к маслинкам и колбаске! Дай-ка я ее откупорю, родимую!
Она сбегала на кухню за штопором, ловко ввернула его в пробку и... хлоп! Пробка оказалась на штопоре. Тут же на столе мгновенно возникли два тончайшего стекла фужерчика и темно-красное густое крепленое вино потекло по их отдающим синеватым отливом стенкам...
Дальше ОН все помнит с какими-то перерывами: кажется, они допили его бутылку, а потом появилась бутылка "от тети Клавы", после, кажется... Да, да! Они достали патефон... Он еще очень удивился, что тот был почти новенький... Точно, точно! Потом... поставили "Рио-Риту" и принялись танцевать. На каком-то крутом и быстром "па" они не удержались и оба упали на кровать, где всегда спала тетя Клава. Кровать была широкая и на металлической панцырной сетке, поверх которой лежала большая и мягкая пуховая перина. Они повалились вдвоем, как на батут: их тут же подбросило вверх.
- Ха-ха-ха-ха! - залилась тетя Клава. ОН тут же неожиданно сильно обхватил ее обеими руками и не давая ей подняться, впился губами сначала в ее уже начинающую становиться немного дрябловатой шею, потом - дальше, дальше... Потом - в губы... Одна рука ЕГО держала ее голову со стороны затылка, губами он раздвигал ее губы, другая - яростно сдирала с нее тугие узкие трусики...
- Ты что это! - вдруг опомнилась тетя Клава. - Ты что, совсем обезумел?
Она уперлась ЕМУ в грудь своими маленькими, но сильными ручками и удивительно легко отшвырнула ЕГО от себя, как напроказившего котенка. ОН, не удержавшись, оказался на полу. Тут же мгновенно поднявшись, он, было, бросился снова на тетю Клаву, но та уже стояла на ногах и, выставив перед ним руки, строго предупредила:
- Не балуй! Успокойся! - и добавила: - Садись за стол!
"Рио-Рита " давно закончилась, игла царапала по старенькой пластинке и этот скрипящий звук начал приводить Его в чувство. Запыхавшийся, ОН сел на свое место и, глядя в стол, дрожащей рукой сунул недоеденную маслину себе в рот. Тетя Клава остановила пластинку, сняла ее с диска, поправила сильно сбившийся халатик и начала закалывать растрепавшиеся в борьбе волосы. Оба натянуто молчали.
- Тебе пора домой,- первой нарушила молчание тетя Клава.
- Да, - механически ответил ОН, - пора.
ОН уперся глазами в стол и не двигался.
- Пора, - повторил ОН, не находя никакого предлога, чтобы остаться. Тетя Клава уже привела себя полностью в порядок и тоже села за стол.
- Ну? - произнесла она, глядя на НЕГО, - что же ты сидишь?
Он никак не находил предлога, чтобы остаться, и продолжал тупо смотреть в стол.
- Ну? - строже повторила тетя Клава.
- Давайте допьем эту гадость, - ОН вдруг кивнул на ополовиненную бутылку "От тети Клавы", - и все. Меня не будет. Идет?
- Идет! - засмеявшись, согласилась тетя Клава. - Но смотри у меня, джигит! - она погрозила ЕМУ пальцем.
Он глянул на нее и сразу понял: они оба хотели одного и того же. Они оба хотели, и ничто не могло удержать их от этого шага. Никакая сила! Они, торопясь, допили вино, торопясь, снова завели патефон и поставили первую попавшуюся пластинку. Это оказался "Веселый май". Также торопливо обнялись в танце и... сразу оказались на мягкой перине. ОН, не отрывая своих губ от ее, сорвал с нее халатик, трусики, яростно сдирая при этом все с себя и, наконец, наконец-то погрузился в земной рай... Все это с ним было впервые в жизни. Эти ощущения, эти звуки, эти стоны, эти всхлипы... От неумения ОН постоянно тыкался не туда, рычал и стонал, плохо соображая, а она, разгоряченная, прерывисто шептала ЕМУ в ухо:
- Не торопись! Потихоньку! Вот так! Вот сюда! Маленький мой!... О-о-ох!
...Проснулся он на той же мягкой перине. В комнате было почти светло. Тетя Клава спала на кровати Толяна, стоявшей под прямым углом встык с материнской. Начал медленно одеваться. Тетя Клава тут же проснулась.
- Ты чего? Уходишь? - сонно спросила она.
- Да, - односложно ответил ОН. - А Толька, что так и не появился?
- Да шут его знает, где он болтается, - полутревожно и шепотом сказала тетя Клава. - Хотя... Большой уже... Пора... Вон ты...
- Я вечером зайду... Может он будет дома, - сильно покраснев, перебил ОН ее, на ходу натягивая на себя рубаху и направляясь к выходу. - Хорошо?
- Хорошо,- ровно согласилась тетя Клава. - Приходи. Может и застанешь его.
... Начинался октябрь и до ухода в армию оставалось чуть больше двадцати дней. Все эти дни ОН приходил вечерами "к Толяну", которого в это время никогда не оказывалось дома. Но зато тетя Клава уже лежала в постели, и в комнате царил полумрак. ОН молча снимал с себя все, что на нем было, молча забирался к ней в постель... Уходил засветло. Вопросов, где же его друг, больше не задавал. Так и ушел в армию, не повидав того...
Только к концу первого года службы получил от Рыжего коротенькое письмецо и любительскую фотографию, на которой тот развязно стоял с сигареткой в углу рта, опершись локтем на какого-то солдатика. Оба были в панамах набекрень, оба - нахально глядящие в подвернувшийся, видимо по случаю, объектив. На обороте стояла дата и короткая надпись: "г. Ош. Привет от собутыльника!"
- Негодяй! - зло подумал ОН тогда о друге. - Не мог трезвым сфотографироваться!
Это фото ОН вспомнил тогда, когда уже демобилизовавшись и учась в ВУЗе, жил в общежитии: мать к тому времени сбежала от нового мужа к сестре в Баку. Из-за истории с тетей Клавой ОН после армии больше домой к Рыжему не заходил, виделись они редко и урывками, и их детская дружба сошла постепенно на нет. Рыжий работал на заводе и, как оказалось, каждый выход за проходную в конце смены отмечал с дружками.
- Не могу уже без этого, - искренне жаловался он.
- Женись, - советовал тому ОН. - Жена тебя быстро заставит с этим расстаться.
- Не знаю, - неопределенно отвечал Рыжий.
- Мать-то как? - интересовался ОН
- Да прибаливать что-то стала часто. Теперь уже на троллейбусе работает. Жаль, что одна. Не хочет никаких мужиков видеть. Ведь не старая совсем еще.
- Привет от меня передавай, - заканчивал ОН разговор. - Может как-нибудь зайду...
Последний раз они с Толяном виделись, когда ОН был уже на третьем курсе. Оказалось, что тот все-таки женился, у него родился мальчик, которому уже почти годик. Живет у жены. Тетя Клава осталась одна в своем домике. А спустя полгода умерла. Как-то все произошло слишком быстро: пришла с работы, сильно болела голова, позвала соседку, чтобы та вызвала "Скорую". Пока добежали до телефона-автомата (один не работает, другой сломан. Оббегали почти все Вистерничены) - все. Инсульт. Теперь вот Толян продает их хатенку.
Толян пришел на эту встречу порядком випивши. ОН всегда это с трудом переносил, но вида не подал и искренне сочувствовал горю бывшего друга юности. Но все же не сдержался и мягко посоветовал тому все же бросить пить . Семья ведь уже как-никак имеется. Но всегда спокойный Рыжий вдруг ни с того ни с сего рассвирепел и, чего с ним никогда прежде не случалось, быстро вытянул вперед правую руку, пытаясь схватить за горло своего "бывшего собутыльника", как он написал когда-то на обороте своей армейской фотографии. А ОН еще перед уходом в армию был уже вице-чемпионом города по боксу и поэтому автоматически отреагировал на неожиданный выпад Рыжего: нырнул под его вытянутую руку, "сделал" двойку по корпусу, вышел слева от него из-под руки и нанес тому сильный боковой удар левой в челюсть и снизу правой в подбородок. Рыжий оказался "на полу" и, ничего не понимая, "блымал" своими белесыми глазками.
- Ты что! Бешеный! - наконец немного очухавшись, поднимаясь почти промычал он. - Ты что?
Это была их последняя встреча...
Спустя месяца два, дежурная в общежитии вызвала ЕГО в вестибюль: ЕГО спрашивала какая-то молодая женщина. ОН спустился со своего второго этажа, где была ЕГО комната, и действительно увидел в вестибюле маленькую смуглую молодую женщину, державшую на руках белобрысого тихого мальчугана. Вылитого Рыжего! ОН догадался, что это - жена Толяна и, поздоровавшись, удивленно спросил, что ее сюда привело.
- Толик пропал, - расплакалась женщина. Исчез и нету его. Может, вы знаете, где он может быть?
- Исчез? Как? При каких обстоятельствах?
- Продал свою хатку, будь она неладна, и уехал к своему дяде в Закарпатье, в Мукачево. Временно. Чтобы найти там работу и купить что-нибудь из жилья. Я жду-пожду от него вестей, жду-пожду, а ничего нет. Дала туда телеграмму, а его дядя мне отвечает, что ничего о нем не знает. Даже не знал, что его сестра Клава умерла. Вот такие у нас дела. Может, Вы знаете, куда он мог податься? - повторила она с надеждой в глазах свой вопрос.
- Увы,- ответил ОН тогда, - ума не приложу. А вы в милицию заявляли?
- Да что вы нашу милицию не знаете? Смеются. Говорят, надо еще подождать. Объявится. Загулял, мол, у какой-нибудь бабы. Мол, пока та из него все денежки не вытянет, он не объявится. Паразиты! Но я их все же заставила взять от меня заявление. Обещали объявить всесоюзный розыск. Да я что-то мало в это верю. Хоть бы живой был. Ну, как он мог сбежать от маленького сыночка? Как? - она не успевала утирать непроизвольно катящиеся по щекам слезы. Мальчишка, глядя на мать, начал тереть глазки ручонками и заревел во всю мощь своего отработанного детского плача...
... И вот жизнь прошла. ОН уже несколько лет - на пенсии. Живут с женой одни. Дети поразъехались кто куда. Выживать в нынешних обстоятельствах. ЕГО мать так и прожила остаток жизни в Баку, больше не выйдя замуж. Уже девять лет, как ее нет на этом свете. И все эти девять долгих лет ОН не смог ни разу посетить ее могилу. Даже не знает места, где она похоронена. Все эти перестройки, суверенитеты, рынки, войны разорили вконец на старости лет ЕГО семью, не позволив попасть на похороны даже собственной матери.
И вот, наконец, неимоверными усилиями кое-какие собранные гроши дали ЕМУ возможность прилететь в Баку и увидеть место ее последнего пристанища. Узнав место захоронения у кладбищенской администрации и купив небольшой букетик алых тюльпанов там же на месте, ОН направляется к ее могиле. Внимательно смотрит на надгробья, на любые надписи, где бы они ни попадались. Да, кажется, вон та. Вон та, рядом с которой (почему?) стоит высокий худой старик со спутанной седой шевелюрой. Чуть поотдаль играет на скрипке заунывную восточную мелодию, видимо нанятый, такой же седой и очень темнокожий музыкант. Оба старика - в строгом одеянии. В руках у высокого - ярко-ярко алые розы. Старик молча смотрит в изголовье могилы, которое венчает небольшой, серого камня, скромный обелиск с фамилией ЕГО матери. Из глаз старика тихо текут слезы. ОН недоуменно обходит старика со стороны спины и тихо подходит к обелиску, чтобы видеть того в лицо. Старик в своем бесконечном горе не замечает ЕГО.
Рыжий! - вдруг почти в ужасе вскрикивает ОН, с трудом узнав знакомое и почти забытое лицо. - Толян! Неужели?
Старик крупно вздрагивает, розы падают из его задрожавших рук прямо ему под ноги. Видно, что он сразу узнает своего друга юности. Губы его трясутся, а из приоткрывшихся уст доносится что-то похожее на мычанье. "Черный" музыкант продолжает играть...
... Потом они вдвоем сидели под старыми кривыми алычами в чайхане неподалеку от кладбища.
-- Я ее любил, - беспрерывно плакал Рыжий. - Безумно. Всегда. И она меня. Я тогда из Кишинева к ней сбежал. У меня с тех пор другая фамилия: здесь это было несложно сделать. Но мы все эти годы страх, как тебя боялись. Ты же - бешеный...
-- Нет, - перебил Рыжего ОН, глядя в плавящееся над ними и безразличное ко всему происходящему небо, - нет. Мы оба - бешеные.
06.06.2002 г. Кишинев[Author ID1: at Sun Mar 13 09:48:00 2005 ]
Всё проходит...
Первое сентября. Ясное, ещё по-летнему жаркое солнечное утро. Стадион колледжа, на котором выстроилось торжественное каре из нарядных студентов и студенток. Стоят группами. Только что поступившие - с родителями, бабушками-дедушками. Ксюша пришла со своим дедушкой. Она совсем недавно приехала из России по просьбе своей мамы приглядеть за стариками. Поступила на первый курс колледжа. В эту минуту она удивлённо глядит своими большими карими глазами то на своего дедушку, то в центр каре, где выступает руководство и общественность колледжа. Идёт торжественная линейка. Ксюша ничего не понимает, о чём говорят приветливые выступающие, и постоянно теребит за руку дедушку:
- Деда, о чём они говорят?
- Как обычно: поздравляют всех вас с началом учебного года, желают вам всех благ, чтобы вы хорошо учились, слушались преподавателей, своих родителей. Ну и всё такое прочее...
- А что это всё время произносят "Штефан Чел Маре", "Штефан Чел Маре"? Что это?
- А это у всех вас будет первый урок, посвящённый господарю Молдавии Штефану Великому, который умер 500 лет назад.
- 500 лет? Ничего себе! Это будет Ленинский урок? Как раньше было? Бабушка мне рассказывала...
- Что-то вроде этого, - кривится дедушка. - Во власти ведь те же люди, которые и проводили такие уроки. Только героя сменили. Они иначе и не могут...
- А по-русски здесь хоть два слова скажут для нас?
- Должны бы, - неуверенно отвечает дедушка. - Хотя бы для проформы должны бы.
- Что-то не чувствуется, - сомневается Ксюша.
- Потерпи, - урезонивает её дедушка, - потерпи. Их же большинство тут, вот они и говорят на своём языке.
- А мы что - не люди? - начинает горячиться Ксюша, - мы - не люди?
- Ты приехала в другую страну, миленькая! Тут свой язык! Хотя, конечно, могли бы хоть два слова, для приличия, сказать и по-русски. Славян-то здесь почти половина населения! 40 процентов!
- Вот-вот! - продолжает горячиться Ксюша. А я что говорю?
- Ну, вот ты, когда выучишься, - улыбается дедушка, - даст Бог, станешь директором колледжа, вот тогда и выступишь на двух языках. А может и на трёх...
- Да в жизни никогда этого не будет, деда! - Забыв, где она находится, воскликнула Ксюша. - Никогда!
- Тише, тише, пожалйста! - осадил её дедушка. - Успокойся!
- Меня уже девочки просветили, - перейдя на злой шопот, задышала в ухо дедушке взволнованная Ксюша. - У вас тут, если ты - не молдаван, то будь ты хоть семи пядей во лбу и знай хоть двадцать их языков, тебя дальше порога никто из них не пустит!
- Ну, ты и шустрая! - искренне удивился дедушка. - Думаю, так будет не всегда. Это противоестественно.
- А как они кричат здесь о равноправии! - продолжала шептать Ксюша. - Вон, например, в Тирасполе! Дак там - три государственных языка! А у вас тут с одним проходу не дают! Везде на всех углах кричат, что тут - демократия, а у них, мол, в Тирасполе, полный произвол! Ничего себе штучки! - Ксюша всё это выговаривала дедушке, словно он был виноват во всём происходящем.
- Да успокойся ты, золотко, - притормозил её дедушка, - и не сильно-то дакай. Тут так не говорят. А где ты успела так подковаться всего за один месяц? Успокойся! Всё обойдётся! Ты же станешь учиться в русской группе! Выучишь язык постепенно. Кстати, язык не самый плохой. Даже очень симпатичный язык. Всё само собой станет на свои места...
...Торжественная линейка закончилась без единого русского слова. Ксюша с группой пошла в учебный класс, а дедушка потихоньку отправился домой. Что-то ему нездоровилось сегодня. Дома дедушка сел в кресло отдохнуть и включил по привычке телевизор на местный канал. Передавали выдержки из речи Президента. "Мы пришли к выводу, - говорилось уверенно с экрана, - что все национальные меньшинства, проживающие в нашей стране, являются государственнообразу-ющими..."
- Как хорошо быть генералом! - с грустью подумал дедушка. - Его бы - да на сегодняшнюю линейку!
Дедушка вдруг вспомнил далёкий 1944-й, как приезжал к ним в посёлок с фронта его отец, как на того налетел бабушкин петух Серьга, которому бабушка потом всё-таки скрутила его буйную голову, вспомнил, как он, Тимка, тревожно слушал вылетающий из "тарелки" марш "Прощание славянки", как отец воровито ушёл тогда от них с каким-то газетным свёртком подмышкой, чтобы больше никогда-никогда не вернуться... У дедушки на глаза навернулись слёзы... Сквозь пелену слёз он увидел своих погибших от немецкой "растяжки" друзей Кольку и Витька, орущую резаным голосом по своей грядке лука жадную тётку Жилиху, маму Павлика Довганя, только что вынутую пареньком-милиционером из петли, свою бабушку, насильно отправленную матерью в приют и его, маленького Тимки, неизбывное горе... Дедушка расплакался. Он плакал и плакал, благо дома он был один и никто не мог наблюдать его сегодняшнюю слабость. Вспомнил он разбитную тётю Клаву. Потом в памяти промелькнула рыжая ленинградская блокадница в стоптаных босоножках и соломенной шляпе, распевающая перед перепуганными пассажирами на готовом вот-вот потонуть в бушующих морских пучинах маленьком прогулочном катерке весёлые песни. Дедушка мягко улыбнулся сквозь катящиеся по щекам слёзы: "Вот это была настоящая женщина! Не какая-нибудь Жилиха!". Вспомнил все свои работы и постоянные мытарства среди высокого начальства. "Никому ничего никогда не было нужно, кроме своей бесконечной и извращённой корысти! Что за[Author ID1: at Sun Mar 13 09:53:00 2005 ]Удивительные [Author ID1: at Sun Mar 13 09:53:00 2005 ] люди! А сегодня? Что творится сегодня?!"
За все эти длинные прошедшие годы он в жизни так ничего толком и не понял... "Ничего, - подумал, успокаиваясь, дедушка, - ничего. Всё проходит... Пройдёт и это..."
04.09.20[Author ID1: at Sun Mar 13 09:55:00 2005 ]04.[Author ID1: at Sun Mar 13 09:55:00 2005 ] г. Кишинёв
Бремя судеб наших
Последняя распутица
Иоанна собиралась молча: спешила. Всю эту тяжелую, почти бессонную ночь за окнами бушевало ненастье. Порывы ветра достигали такой силы, что, казалось, вот-вот сорвет крышу и звонко лопнут изнемогшие от напора непогоды тонкие стекла беспомощно глядящих в беснующуюся темноту некогда величественных, а ныне сильно постаревших и облупившихся окон. Иногда ветер внезапно стихал, и комната наполнялась ровным шумом: кто-то будто из гигантской космической лейки поливал все сущее на земле. Под утро Иоанну все-таки сморило и она проспала назначенное ею же себе время подъема. Да и бездорожье, всегда наступавшее в этих местах даже после небольшого дождя, грозило опозданием к поезду, до которого надо было добираться в город на чем придется. Ее торопливые сборы чем-то походили на воровство, и она чувствовала это, как чувствуют подступающую тошноту, отчего она резче заталкивала в огромный черный чемодан, купленный здесь же за границей и с нови пахнущий кожей, разные тряпки и плотнее сжимала и без того совсем сухие губы.
Сегодня она боялась всего: и вязкой осенней распутицы, которая может ее здесь задержать, и, как нарыв, болезненной тишины, хрупко висевшей над самой ее головой, отчего она, будто страшась задеть эту хрупкость, двигалась осторожно, боком и согнувшись. Но больше всего она боялась каких-то по-детски открытых растерянных глаз отца, неудобно присевшего тут же на старой, еще довоенной железной кровати. Если верить соседке, то она, Иоанна, родилась на этой самой кровати, хотя, когда перед отъездом из дома сюда, к отцу, Иоанна спросила об этом у матери, пришедшей к ней в комнату пожелать ей доброй ночи, мать в ответ только ласково провела своей сморщенной теплой ладонью по ее уже побитым кое-где ранней проседью, но еще довольно густым волосам, чуть приложилась губами к самому уголку ее вопросительно глядящего, такого же черного, как и волосы, глаза и, ничего не ответив, не обернувшись, медленно вышла из комнаты и легонько прикрыла за собой тоненько пискнувшую стеклянную дверь.
В комнате было зябко и неодобрительно. То ли от осеннего сырого ветра, пытавшегося сорвать с одиноко стоявшего во дворе перед самым окном огромного ореха последний, запутавшийся в старых, скрюченных годами ветвях, испуганный жухлый лист, то ли от торопливого молчания ее, Иоанны, то ли от горьких дум отца, которому, как и тогда, тридцать пять лет назад, наверное не хотелось по-мужски скрывать навалившуюся на него боль, неумолимыми обручами охватившую его и сжимавшую до прерывания дыхания, а совсем по-бабьи, даже более того - по-собачьи заскулить, завыть: именно в такую же осеннюю распутицу тогда также торопилась к поезду ее, Иоанны, мать, чтобы больше никогда не переступить хозяйкой порог этого дома, а она, трехлетняя, совсем-совсем еще несмышленное существо, своим маленьким сердечком чувствовала, что предстоит разлука навсегда, что ей больше никогда-никогда не обнять своего татикэ за крепкую загорелую родную шею, и потому она не хотела одеваться и с громким плачем вырывалась из рук матери, просясь к отцу "на ручки".
Судьбе было угодно распорядиться так, чтобы мать с ней, маленькой Иоанной, сразу же после войны уехала отсюда в Кишинев к больной бабушке, а отец, которому было жаль бросать большой и крепкий дом, дом, больше похожий на барский, чем на простой крестьянский, отец, которому было жаль неизвестно кому оставлять все нажитое, наотрез отказался ехать и остался один здесь, под Бухарестом, надеясь в глубине души, что они с матерью в скором времени вернутся: ведь там, в России, был голод.
Первое время мать почти каждую неделю писала отцу, уговаривала, умоляла приехать к ним в Кишинев, где у бабушки был небольшой домик. Как нибудь устроились бы. Только бы вместе. Но отец упрямо стоял на своем: боясь потерять родину и имущество, он к тому же боялся красных больше, чем разлуки с семьей. Хотя к этому времени и его родина начинала перекрашиваться в послевоенный красный цвет. Мать Иоанны металась меж двух огней, но не решалась оставить больную бабушку, а та, будучи по национальности болгаркой, уроженкой Бессарабии, об отъезде за границу и слышать не хотела.
- Что за нелепость! - Искренне возмущалась бабушка, когда мать осторожно заводила разговор об отце, о "возвращении", как она любила по-библейски выражаться, а глаза ее при этом глядели, не мигая, отрешенно и куда-то далеко-далеко. - Что за нелепость, - повторяла бабушка, - ехать в чужую страну! Пусть твой куркуль сам едет к семье! Пиши ему письма почаще! - повелительно заканчивала она и отворачивалась, давая понять, что больше затрагивать эту тему - совершенно пустое дело.
Мать, подавленная, виноватая, потерянная, просто уничтоженная, тоже поворачивалась спиной к бабушке, подходила к небольшому зарешеченному толстыми металлическими прутьями оконцу, которое выходило на узкую кривую, в любое время года всегда грязную и разбитую улочку, по другую сторону которой начинался заброшенный пустырь, бралась обеими руками за шершавую решетку и приникала пылающим лицом к холодному спокойствию металла. Долго стояла непокаянно-неподвижно, не произнося ни звука. Только пальцы, сжимавшие крепкую, посаженную на века решетку, белели от напряжения, да на узком, местами почерневшем по краям от постоянной сырости подоконнике, посередине застеленном пожелтевшей газетой, оставались огромные разводы от падавших с высоты горячих крупных слез. В такие минуты Иоанна боялась матери, и ее, Иоанны, нежное маленькое белое умилительное личико искривляла гримаса страха, отчаяния и безысходности. Личико темнело, супилось, словно море в непогоду, рябило невесть откуда появляющимися старческими морщинами и, в конце концов, из темных, как спелые сливы, глаз выкатывались родниковой воды прозрачные слезинки.
Граница была прочно закрыта для таких, как Иоанна и её мать, поэтому для общения с отцом оставалась только переписка. На такую переписку с заграницей косо смотрели не только власти, но и соседи со знакомыми. Поэтому всякий раз отправляя письмо отцу, мать чувствовала себя государственной преступницей, шпионкой, пособницей иностранной разведки. Она сильно нервничала и после каждого своего похода на почту громко выговаривала тяжёлые жгучие обиды бабушке. Бабушка в ответ только молча пожимала плечами. В конце концов переписка с отцом истощилась, иссякла, как иссякает мелководная речушка в томимой многолетней стойкой жаждой истрескавшейся земле. Не желавшая своей детской душой этому верить Иоанна, еще многие-многие дни часто и подолгу задумчиво стояла у старого серого фанерного ящика для писем, косо прибитого на редкой, в несколько горбатых досок, калитке. Мать об отце ни разу не вспоминала и на в первое время частые вопросы простодушной дочери о нем, всякий раз раздраженно кричала:
- Война! Война, проклятая! У нее пойди спроси! А про другое тебе ещё рано знать!
Иоанна ничего не понимала и, надувшись, обиженно замолкала.
Солнышко поднималось и садилось, поднималось и садилось. Детские забавы Иоанны сменились школьными заботами, бабушка давно поправилась и понемногу работала на каких-то курсах, мать приходила домой с фабрики невеселая, усталая, отправляла наспех что-либо в рот и сразу бросалась доделывать разные домашние дела, которым конца краю никогда не было видно. До Иоанны очередь доходила только перед самым сном. Об отце все как будто забыли. И вдруг пришло письмо. Иоанна училась уже в девятом классе. Возвращаясь днем из школы, она привычно толкнула ногой калитку и тут же заметила, как что-то белое выпало из ящика, ставшего за долгие годы висения на дворе совсем дырявым. На черной, влажной от сильного ночного дождя земле белел прямоугольный конверт. Письма к ним давным-давно уже ниоткуда не приходили, поэтому Иоанна сперва решила, что почтальон ошибся. Она нехотя нагнулась за письмом и, неожиданно увидев на конверте строки из латинских букв, тут же задержала руку, протянутую было к конверту. Немного напрягшись, прочитала подпись: Неферичит Ион. Письмо было от отца...
Впервые на ее сознательной памяти она невольно стала свидетелем, как мать, словно очнувшаяся глухой сонной ночью птица, привязанная хозяйкой к насесту, который уже лизало голубовато-желтое пламя, в яростном отчаянии заметалась, забилась в лихорадочной суете. Сразу вдруг осунувшаяся и вся какая-то почерневшая от налетевшей на нее стремительным безжалостным коршуном нежданной беды, чувствуя себя бесконечно виноватой перед своей семьей, так глупо разрушенной по ее женской неосмотрительности, неразумию, нерешительности и даже легкомыслию, осколки которой, открытые всякому ненастью, ржавели по обе стороны государственной границы, мать днями бегала по инстанциям и хлопотала, хлопотала о разрешении на выезд к больному отцу им обеим с Иоанной. Бабушка, прежде всегда такая разговорчивая и ласковая, словно окунулась в ледяную прорубь: вся остыла, съежилась, притихла, и долгими сырыми вечерами все сидела и сидела в теплом углу комнаты у такой же старой, как и она сама, печки. Что-то, вроде, вязала на спицах, а больше пусто глядела в пространство. Мать и Иоанна в эти молчаливые тягостные вечера тоже думали каждая о своем. Стояла ненастная поздняя невеселая осень...
Больше всего Иоанне запомнилось, как они с матерью подъезжали к дому отца на попутной жесткой скрипящей, с натугой вытягиваемой небольшой гнедой лошаденкой из глубоких деревенских колдобин телеге. Мать постоянно поправляла то и дело сбивавшийся на глаза серый пуховый платок и, как только небритый, будто невыспавшийся, с безразличными полузакрытыми глазами и длинными, как у женщины, черными ресницами, худющий, в стеганной телогрейке и серой, примятой сверху и надвинутой на самые глаза кушме средних лет возница приостановил у старого забора свою усталую и тяжело раздувавшую худые бока лошаденку, мать порывисто вскочила со скамьи, стараясь заглянуть за забор. Что с ней происходило в этот момент, Иоанна не успела заметить: она сама внезапно почувствовала сильные-сильные толчки в груди, такие, что дыхание вот-вот должно было остановиться. Что-то железное, жестокое, неумолимое начало сжимать, сжимать, сжимать у висков, у затылка голову, по всему телу пошел противный озноб и выступил холодный липкий пот. Чтобы как-то себя унять, Иоанна первой начала слезать с уже совсем остановившейся повозки. И в этот момент вздрогнула от дикого вопля мужика:
- Ты что, совсем очумела? Ненормальная! Кошка!
Мать с трудом разжала механически вцепившиеся в шею возницы побелевшие пальцы, одной ногой наступила на высокий борт телеги, быстро, не глядя, спрыгнула прямо в самую грязь, сильно забрызгав не успевшую отойти в сторону Иоанну и, забыв про все на свете, махнула мимо равнодушно стоявшей уставшей лошаденки к широким деревянным воротам, обильно украшенным ажурной металлической вязью, но сильно побитым временем. Иоанна, плохо понимая все происходящее и еще не придя в себя, тут же рванула вслед за матерью...
Двор был большой. Точнее - огромный. Двор некогда богатого белого камня дома, дома, даже теперь еще не потерявшего своей былой солидности, высокого, крепкого и просторного. Их с матерью и бабушкой кривобокая, с низенькими, почти вросшими в землю оконцами мазанка, опоясанная полуразвалившейся рыжей глиняной завалинкой, всегда сильно протекающая даже в небольшие дожди... Да... Иоанна даже на миг растерялась и с удивлением взрослого рассудительного человека посмотрела на свою мать. Будто впервые ее увидела. Да... Мать же, не останавливаясь, держа в одной руке подол мешавшего ей бежать платья, уже взбиралась на высокое крыльцо, на которое выходила широкая парадная дверь.
Отца они нашли в темноватой небольшой и давно непроветриваемой и потому с тяжелым застоявшимся запахом комнатенке рядом с открытой настежь дверью в такую же запущенную и холодную кухню. Запах, казалось, въелся во все, что здесь покоилось: даже в толстый слой серой пыли, грязью оставшейся у Иоанны на руке, которой она толкнула входную дверь, чтобы ту прикрыть. Мать непослушной рукой нащупала выключатель и включила свет. С широкой, укрытой огромным, в золотую крапинку, красным стеганым одеялом кровати со свисающей до самого пола целый век не стиранной мятой простыней и двумя подушками с цветными и несвежими наволочками, чуть приподнявшись, как с того света, на них глядел изможденный тяжелой болезнью и долгим одиночеством мужчина с наполовину седой бородой, давно не знавшей бритвы и переходившей у висков в спутанные черносеребристые волосы. На стоявшем у его изголовья простом и ничем непокрытом табурете, громоздились разные склянки с лекарствами, вперемежку с остатками еды белели разные таблетки, а на полу у табурета мирно соседствовали красный с широким прямым носом пузатый чайник и зеленый вместительный ночной горшок.
По мере того, как медленно проходили секунды, лицо больного все больше бледнело, доходя до мертвенной желтизны, какие-то внутренние подспудные и дремавшие до этого мгновения могущественные силы пробудились, зашевелились, задвигались, торопясь поскорее выйти наружу, на белый свет и в своем диком необузданном стремлении обогнать одна другую, начали корежить застывшую было желтую маску, заставляя сочиться из удивленных темных и широко открытых глаз горькие слезы никогда не проходившей жгучей обиды.
- Вот...я...один...никого, - пытался что-то сказать отец. Иоанна и мать, как вкопанные, застыли у двери. Плакали одними глазами.
Пробыли они с матерью у отца около месяца. За это время отец почти поправился. Болезнь его отпустила, он начал понемногу ходить по дому, все еще немного бледный, слабый, но уже повеселевший, уверенный. Выходил во двор и пытался что-либо делать по хозяйству.
Мать привела в порядок все комнаты огромного дома. Под ее легкой женской рукой старый и почти мертвый дом ожил, наполнился радостью, помолодел. И Иоанна как будто заново родилась. Научилась легко произносить забытое слово "папа", каждое мгновение физически ощущать, что у нее тоже есть отец, что вот он тут, рядом, что только стоит захотеть и можно подойти к нему, взять его за руку, заглянуть во все понимающие, все прощающие, такие свои родные глаза и найти в них любовь и успокоение. Даже походка у нее изменилась: стала тверже, уверенней, прямей.
Все эти годы отец жил один. Иоанна никак не могла понять, как он сам управлялся по хозяйству. Она постоянно думала, размышляла об этом, отчего острая, почти осязаемая недетская жалость к нему засела у нее где-то под самым сердцем и колола, колола, колола.
- Как ты живешь один? - не выдержала как-то Иоанна, забравшись, как маленькая, к отцу на колени. - Как? - отец ничего не ответил. Только нежно погладил ее по голове загрубевшей широкой ладонью да глаза его вдруг повлажнели, что заставило его отвернуться от нее.
Иоанна занимала светлую большую комнату, смежную той, в которой жил сейчас отец. И, если перед сном ей случалось иногда забежать на кухню в поисках какой-нибудь сухой корочки, она обнаруживала, что в комнате отца не спят: высокий певучий голос матери вплетался тонкой серебряной нитью в глухой низкий медный бас отца. Все это было для нее ново, непривычно, вызывало радостное и тревожное волнение. Она долго не могла после этого уснуть, молча лежала, думая об отце и матери, о себе, глядела в ночную темь своими черными, как ночь, глазами.
Настало время им уезжать. Отец с матерью в комнате Иоанны молча собирали их нехитрый чемоданишко. Иоанна решила напоследок побродить по двору, несмотря на моросящий нудный холодный с ветром дождь. С плохо скрываемым страхом она ожидала мучительных минут расставания. Она не желала этого. За дни, что прожили они у отца, как-то само собой сложилось, что вопрос их троих дальнейшей жизни не затрагивался. К нему даже боялись прикоснуться. Все шло, как шло. И готовились к отъезду так, будто ничего не происходило.
Так они с матерью и уехали. Иоанна до сих пор ясно помнит, словно это было не два десятка лет назад, а только вчера: тоскливо скрипели, скрипели колеса увозившей их от дома отца телеги, больно чавкала под копытами понурой лошаденки черная жидкая жирная грязь, да слабый отец, еще нетвердо опирающийся на подобранную здесь же во дворе суковатую кривую палку, стоял в воротах в накинутой от дождя на голову мешковине и осторожно махал им вслед свободной рукой. То ли прощался, то ли прощал...
Прошли годы. Много. Иоанна закончила институт, стала работать в школе учителем русского языка. Замуж не вышла. Их старенькую ветхую хатенку снесли, а взамен дали небольшую двухкомнатную квартирку в новом высотном доме. В ней они и живут вместе, три одинокие женщины, без мужей и защиты, три одинокие березки на маленьком голом изолированном пятачке жизни. Бабушка совсем постарела, плохо видит и почти ничего не слышит. Мать, хотя и вышла на пенсию, продолжает работать. С поездками за границу давно стало полегче и каждый год, начиная с той памятной для нее осени, Иоанна ездит к отцу. Он живет попрежнему один. Мать больше к нему не поехала...
В этот раз, как и в первый, с матерью, Иоанна срочно приехала к отцу по его тревожному письму. Он снова тяжело и долго болел. Будучи у него еще летом, Иоанна, как и во все прошлые свои приезды, в который раз уговаривала отца продать этот на всю жизнь разлучивший их семью и потому так ненавидимый ею дом, этот символ призрачного богатства и ложного, латанного-перелатанного лакейского благополучия, чтобы, наконец, переехать к ним. Они, его семья, всегда его ждали, ждут и будут рады ему. Да и стар ведь уже, уход требуется. Но отец в ответ только тяжело и мрачно отмалчивался. А болезнь, вот она... Идет тенью рядом со старостью. Иоанна, сколько могла, находилась здесь, рядом с ним. Но срок ее пребывания за границей, увы, истекает, и у нее могут быть неприятности, особенно там, дома. А отцу никак лучше не становится. Надо было что-то предпринимать. Нельзя же вот так все бросить и уехать!
Несколько раз за последние дни Иоанна тайком от отца забиралась в дальний угол двора, выходящий к соседскому огороду, месту в это время года пустынному и глухому, и припадала в отчаянии лицом к потрескавшейся коре старого ореха, доживающего свой долгий век в раздумьях о суетности всего земного. Она обнимала стынущими на холодном сыром ветру руками его широкий надежный ствол и давала, наконец, волю через силу сдерживаемым в присутствии отца и постоянно угнетавшим ее рыданиям. Вдоволь наревевшись, она затем надолго запиралась в своей комнате, приводила себя в порядок и выходила к отцу, стараясь избежать встречи с его всепонимающими глазами.
Накануне своего отъезда Иоанна обошла поочередно всех соседей, прося каждого приглядеть за больным отцом. От денег, предложенных ею за уход за её отцом, все, как один, наотрез отказались. Даже корил ее каждый по-своему за такое. Но каждый согласился помочь. Несмотря на это, Иоанна все же чувствовала себя преступницей. Да еще эти глаза отца...
Теперь вот она будто по-воровски торопливо собирается, а он сидит на старой, еще довоенной, железной кровати и молча наблюдает, не в силах что-либо изменить.
- Ты не очень переживай, дочка, - угадывая ее мысли, вдруг произнес он, когда она уже заканчивала свои сборы. - Езжай с Богом. Как нибудь все обойдется. Летом только постарайся приехать. И маму с собой привези. Забывать я ее начал. Плохо... О-хо-хо-хо! Такая вот она жизнь! Кто думал, что вот так оно все обернется! А соседи у меня хорошие. Досмотрят. Ты не беспокойся. - он ненадолго закашлялся и осторожно прилег. - Погода вот... Все из-за нее... - Иоанна не выдержала и разревелась. - Не надо, дочка, не надо. Ты лучше собирайся, а то опоздаешь. И так вон как задержалась. А поезд, он ждать не станет.
В дверь постучали. Вошел сосед, который во все ее приезды отвозил ее на своей телеге обратно в город к поезду. Сосед был в сером брезентовом плаще с капюшоном и в кирзовых, наваксенных по такому случаю, сапогах.
- Вот... грязь, - извиняющимся тоном произнес он и в нерешительности остановился у порога. - Значит, это... пора, значит, ехать... Прощайтесь, Ион.
- Да, да, да! - вдруг засуетилась, забеспокоилась Иоанна, - сейчас, сейчас! Да вы присядьте, присядьте пока, пожалуйста! - она мигом кинулась к вешалке, кое-как схватила свое пальто и долго не могла попасть руками в рукава: руки ее не слушались. Сосед совсем смутился и принялся поворачивать к двери:
- Прощайтесь, я подожду у повозки. - И шурша своим широким плащем, скрипнув дверью, осторожно вышел. Отец молча лежал, глядя мимо Иоанны куда-то в пространство. Наконец, одевшись, она с трудом выдохнула:
- Ну...
Обутая в изящные черно-блестящие на высокой платформе сапожки, осторожно ступая по скрипучим прогибающимся и давно некрашенным половицам, Иоанна подошла к кровати, на которой лежал отец, медленно опустилась на колени и положила свою голову ему на грудь. Затихла. Отец тоже молчал и тихонько поглаживал ее по густым, с ранней сединой, рассыпавшимся волосам.
- Потерпи, - прошептала Иоанна, - потерпи немножечко. Мама приедет. Я знаю, приедет. И я. Мы будем вместе. Будем...
В Кишиневе тоже стояло ненастье. Иоанну лихорадило. Выйдя из вагона, она не направилась, как обычно, искать такси, а стояла под дождем тут же на перроне и смотрела, смотрела на поезд, в котором только что приехала, не в силах вот так сразу расстаться со всем тем, что осталось по ту сторону границы, по другую сторону и ее несложившейся жизни. Поезд скоро тронулся и застучали мерно колеса, мерно застучали мимо одиноко стоявшей немолодой женщины...
Дверь квартиры Иоанна открыла своим ключом. Устало поставила в прихожей чемодан, подошла к вешалке с большим прямоуголным зеркалом и, начав снимать с себя пальто, непроизвольно оглянулась: на пороге комнаты стояла мать. Нет, не стояла. Она медленно валилась набок. Падала. Ее редкие седые волосы веером рассыпАлись по дверному косяку. Иоанна рывком кинулась к ней, подхватывая ее на руки.
- Доченька, - слабо шептала мать, - доченька! Папы... нету... Телеграмма...
06.12.1981 г. Кишинев
Бутерброд с чёрной икрой
1.
Неожиданный длинный продолжительный и резкий звонок в дверь заставил Николая вздрогнуть. Была пятница двадцатого, по телевизору заканчивались новости из Останкино и в окно уже заглядывала темная мартовская ночь. Дома никого в это время не ожидалось.
- Рита, наверно, чего-то хочет, - привычно подумал Николай о соседке по лестничной площадке и, повернувшись к сидевшей рядом жене, обнаружил какое-то беспокойство в ее глазах.
- Спроси, пожалуйста, кто там, а я пока досмотрю спорт, - произнес он чуть-чуть раздраженно: не любил, когда жена по любому поводу пугалась. - Да смотри там не судачь с ней в потемках да на холоде.
- С кем это "не судачь"? - удивленно выставилась на него жена и затем направилась к входной двери.
- С Ритой, с кем же еще, - не поворачиваясь и не отрываясь от телевизора, ответил Николай.
Снова раздался длинный резкий звонок.
- Да иду же я, иду! - громко крикнула в дверь жена. - Иду!
Николай слышал, как она выдернула цепочку, щелкнула замком и открыла первую, "государственную" дверь, дверь из плохо прессованной бумаги с небольшой примесью дерева - продукт всеобщей экономии эпохи недавнего прошлого и источник дополнительных премий проектировщиков этого архитектурного чуда.
-- Кто там? - громко спросила жена через вторую, железную,
дверь - другое чудо современной эпохи туманных производственных отношений и еще более утаенных производительных сил. В наши лихие времена это второе дверное чудо более надежно защищало их очаг.
-- Кто там? Не поняла!
Последовала небольшая пауза. Спорт перестали показывать и началась реклама. Николай убрал звук у телевизора до нуля и прислушался. Он знал, что через дверной глазок ничего не увидишь: площадка перед дверью давно не освещалась, т.к. лампочки крали чуть ли не с момента их установки. Во всем подъезде вплоть до их последнего, девятого, этажа царил полный мрак. Тут в комнату не вошла, а скорее почти вбежала жена. Вид у нее был более чем тревожный.
- Там... Кажется... Вовка приехал, - испуганно-неуверенно, запинаясь на каждом слове, почему-то шепотом произнесла она. - Я, Коля, боюсь. Иди-ка ты узнай.
- С чего это ты взяла? - так же шепотом, также неуверенно и тревожно спросил ее Николай, осторожно прикрывая дверь из комнаты, где они разговаривали, в прихожую, чтобы их не было слышно: "государственная" дверь была нараспашку.
- По-моему, это его голос, - прошептала жена. - Да и спросил: "Коля и Маша здесь живут?" Смотри не открывай сразу, - со страхом прошептала снова она уже почти в спину Николаю, - а то убьют! Переспроси! Я боюсь!
- Да перестань ты выть! - отмахнулся Николай и, подойдя к железной двери, громко спросил: "Кто?"
- Это я, Коля! Вова я! - услышал он знакомый хриплый голос и, не раздумывая, распахнул дверь в темноту...
На пороге стояло нечто незнакомое. В этом старом и давно небритом изможденном морщинистом существе в плоской серой кепочке на наголо стриженой седой круглой голове, в добытой, повидимому, по случаю, на какой-то заброшенной стройке свалявшейся грязной, искусственной шерсти, некогда коричневой шубейке, надетой прямо на желтую грязную летнюю майку с броской американской рекламой, в этом существе, на ногах которого красовались новые модные кожаные коричневые (в тон шубейке) сапоги и в которые были заправлены летние темнозеленые фирменные штаны, в этом жалком бомжатском существе с настолько впалыми щеками, что, казалось, они вот-вот соединятся между собой над верхней губой, на которой среди сплошного седого поля тонюсенькой стрелкой выделялись совершенно черные изящные усики, в этом существе, у которого в руках ничего не было и от которого исходил настолько омерзительный запах, что Николай невольно поперхнулся, он, Николай, с большим трудом узнал своего сводного брата Вовку. Тот глядел на застывшего в столбняке в дверях Николая большими черными круглыми собачьими глазами, глазами собаки, которую всегда много бьют, но плохо кормят, глядел, не зная, куда деть пустые руки, пытаясь что-то еще сказать и не решаясь переступить порог.
- Ну, заходи, - посторонился Николай, с плохо скрываемым отвращением беря Вовку за рукав его шубейки чуть повыше локтя, и с силой потянул того в прихожую. Жена, Маша, стояла посреди прихожей недвижимо: на нее, как и на Николая, тоже напал столбняк, поэтому Вовка чуть было не столкнулся с ней лоб в лоб.
- Заходи, удалец! - Николай отпустил рукав вовкиной шубейки и принялся поспешно закрывать дверь, а то чего доброго выйдет ненароком кто из соседей: перепугаются же насмерть!
-У меня... пенсионное есть...Я...на электричке... Денег-то нет... Никто ничего... Так сперва завезли меня аж в Днепропетровск... Никто ничего... А потом в Одессе... Вот мое пенсионное... - бормотал и копался в карманах Вовка. - Четверо суток по вокзалам... Гоняют...
- Потом! - не выдержал Николай. Он совершенно очумел не только от всего вдруг случившегося, но и от душившего его в небольшой тесной прихожей зловония. - Потом нам все перескажешь, а сейчас быстро все с себя снимай! Да поскорей же! - при этом Николай буквально сдирал с Вовки его драгоценную шубейку, а тот, оказавшись невероятно худым и слабым, не устоял и покорно повалился на бок и на спину. Маша в прихожей стояла в прежней позе, так до конца и не придя в себя.
-У-у-у, скотина! - начал звереть Николай, хватая Вовку за руку и ставя его, как куклу, на ноги, - раздевайся же! А ты что, оцепенела? - заорал он на жену. - Всю эту рвань - в лоджию, в ящик! Завтра разберемся! Быстро найди чего-нибудь из моего, а я поставлю на плиту ведро воды. Да пусти в ванной воду! Пусть хоть и чуть теплая, да все не лед, как батареи!
Маша, наконец, придя в себя от всего случившегося, сразу засуетилась, заохала, начала как-то бестолково тыкаться во все шкафы и ящики их старенькой и облезлой стенки, мгновенно забыв, где и что у нее находится. Руки у нее тряслись и плохо ей повиновались, были совсем чужими. Телевизор молчаливо показывал очередную перестрелку между двумя бандами гангстеров. Вовку в его канареечной заграничной маечке бил крупный озноб и он никак не мог снять с себя свои летние верхние штаны, из-под которых Николай разглядел еще двое: первые - воинское х/б, а нательные - из комплекта толстого нижнего белья, бывшие когда-то голубыми, времен, повидимому, Великой Отечественной, времен, когда Николай был еще малышом и кочевал с матерью по эвакуациям, а Вовки еще и в помине не было. Вовкин отец, в отличие от николаева, особиста, топил в то время немцев где-то на Балтике.
- Да перестань ты трястись, как юродивый! - не выдержал Николай. - Поскорее все снимай, а не то я тут задохнусь от твоих перестроечных запахов. На, накинь пока! - он снял с себя черную меховую безрукавку, надетую поверх двух толстых свитеров, и протянул ее Вовке. Тот, поскакивая на одной ноге, грозился вновь оказаться на полу, но все-таки сумел ухватить меховушку, но при этом встал наполовину вытянутой из штанины ногой прямо на пол в грязь от его же сапог. Тут же начал, торопясь, лихорадочно натягивать на дрожащее худющее тело еще теплую безрукавку. Николай отвернулся, чтобы не показать никому вдруг выступивших слез.
Спустя некоторое время Маша разыскала еще один старый толстый свитер Николая, нашла дочкины новенькие вельветовые брючки, зажгла на плите все четыре горелки и духовку и поставила греть полное эмалированное ведро воды. А Вовка в старых истоптанных и извлеченных по такому случаю с немалым трудом из дивана тапочках, в одних трусах, сжавшись в маленький серый комочек, присел на корточки у открытой духовки гудящей газовой плиты, стараясь поглубже засунуть свою непутевую голову в ее огнедышащее чрево.
2.
Братья, несмотря на общую мать и расхожую теорию о том, что мальчики больше походят на матерей, а девочки идут в отцов, были совершенно разными. Старший, Николай, действительно лицом и фигурой пошел в мать, которая в молодости была не только привлекательной, но и веселой, заводилой многих компаний. Лихо отбивала на вечеринках чечетку и обрывала гитарные струны, а балалайка так и плясала в ее руках. Обожатели не переводились, но на мужей невезло: кто гулял на стороне, а большинство пили. От одного из таких и родился Вовка, родился как-то не к месту и не вовремя. У матери к тому времени наступил пик озабоченности: стояло голодное послевоенное время, очередной муж запойски пил и не работал и надо было не только содержать его самого, но и уже двоих детей. К тому же, как говаривала мать, ей надо было устраивать личную жизнь, поэтому на детей времени просто не хватало и по этой причине Вовка с самых ранних пеленок был целиком брошен на Николая. Для Николая у матери всегда находился предлог, чтобы не пустить того летом в пионерлагерь: то ночью плохо спит и во сне кричит матом, то сьел все варенье, выделенное на работе одиноким матерям в виде помощи, то не углядел за молодым теленком, привязанным в комнате за быльце железной кровати и тот сжевал материнское выходное платье, тоже выданное из американской послевоенной помощи.
Прошло некоторое время, и Николай ушел служить в армию, а мать с маленьким Вовкой после этого сбежала к сестре в Баку от очередного мужа, который, по обыкновению, пил и нигде не работал,. Когда, спустя три года, Николай вернулся из армии домой, дома как такового после бегства матери уже не было. Николай поступил учиться и жил по общежитиям. Там же они с Машей, одновременно поступавшей с ним учиться, поженились.
Мать в это время начала обустраиваться на новом месте, месте, где теплое ласковое море, инжир, дыни, сладкий виноград, сладкие пьянящие речи горячих южных мужчин и... у нее появился очередной муж, который, как обычно, начал пить и нигде не работать. Правда, пил он все-таки меньше предыдущих, но не работал значительно больше.
А что Вовка? А он в это время маялся у тетки на Украине, а когда подрос, его отправили к его отцу в Ленинград. Николай хорошо помнит, как мать ему писала, что Вовке там хорошо, что он научился играть в шахматы да так, что скоро побьет самого Ботвинника. Но ничего сверхестественного не случилось. Ботвинник устоял, а Вовка нет. Вовка начал пить вместе с отцом, потом пошел воровать, потом - колония, потом - возврат в Баку, потом - шея родной матери, женитьба, двое детей. Все пришло на круги своя: пьет и не работает. Сколько ни увещевал Николай своего братца, приезжая к матери в гости в Баку, сколько ни угрожал ему и даже ни бивал иногда под горячую руку, всегда эффект был один: "Пусть дураки работают. Вон тот (показывает на мужа матери) сидит, а я чем хуже?" "Да пожалей ты мать! - ярился Николай, - она вас, двоих буйволов, не вытянет на свою пенсию!" В ответ всегда была только кривая ухмылка.
Прошло тридцать лет. Последние годы мать, чувствуя, что скоро умрет, а ее дитя останется совершенно без средств к существованию, заметалась, как загнанный зверь в клетке. Заметалась испуганно, от безысходности, от бессилия. Билась безуспешно в клетке, которую она же сама себе и построила. Но все же ей удалось какими-то немыслимыми путями где-то в инстанциях доказать, что ее чадо - не простое и не случайно всю свою жизнь дальше их кухни нигде не бывало. Вовке положили мизерную пенсию за то, что он "боится трудиться". Он совсем воспрял духом, а мать... мать умерла. Когда Николай получил телеграмму, в Азербайджане шла война, самолеты из Кишинева туда не летали, а добираться через Москву выходило тысяч в сто. Все накопленное им с Машей в сберкассе за долгие трудные годы их совместной жизни незадолго до этого в одночасье сгорело и Николай затравленно метался по квартире. Денег взаймы никто не давал. Да их ни у кого и не было, как не было ничего в пустых магазинах. Позвонил дочери, которая жила к этому времени в северной части России, убежав туда из дому вместе с мужем в слабой надежде хоть как-то прокормить себя и свое малое дитя. Слава Богу, что той каким-то чудом удалось достать 15 тысяч и переправить их сестре матери, которая из Баку бежала в Москву. Сестра обещала срочно переправить деньги на похороны по своим каналам. А Николай плакал от нагрянувшей беды, от своего полного бессилия изменить ход событий, от злости на все вокруг происходящее. Только и сделали они с Машей, что вдвоем сели за стол да за рюмкой холодной водки помянули свою отошедшую в мир иной мать, мать, которая трудно работала до последнего своего скорбного часа и не смела ни на минуту передохнуть за свои нелегкие семьдесят четыре года, давая пищу и кров своему законному наследнику Вовке и своим "пьющим", как они весело представлялись в кампаниях, мужьям.
А наследник, как только мать померла, стал звонить Николаю, что, мол, наконец-то он стал свободным и в свои сорок пять лет знает, что делать.
- Не вздумай продавать квартиру! - зная вовкины замашки, кричал в трубку Николай. - Останешься без угла!
- А мне тут нечего делать! - возмущался в ответ Вовка. - Уеду к семье в Россию! - и тут же бросал трубку. Его бывшая жена, имевшая к ее несчастью, небольшую долю армянской крови, давно сбежавшая в Россию не только от Вовки, но и от резни, устроенной армянам в Баку, ютилась с двумя детьми в маленьком захолустном городке в России в каком-то общежитии просто из милости его сердобольного коменданта.
В одной из перепалок с Вовкой Николай неожиданно узнал от него, что деньги из Москвы на похороны не поступали и что мать похоронили, сбросившись, соседи. Да и Собес кое в чем помог. Николай в слепой ярости тут же набрал московский номер...
- Понимаешь... - замялась тетка.- не успели передать. Но мы в церкви поставили свечку, - быстро поправилась она, - и молились...
"Молились"... Один бывший секретарь парторганизации за другого бывшего секретаря парторганизации... Как все сразу перевернулось! "Молились"... Жить не хотелось...
3.
И случилось то, что случилось: Вовка продал квартиру. Хорошую, двухкомнатную, кооперативную, в престижном доме почти в центре Баку. Продал за доллары, которых он, как и все м ы в те времена, никогда в жизни не видывал. Продал за бесценок, так, как подсказали ему его "корешки". И отбыл из Баку, приятно отягощенный пачками замусоленных зелененьких и манящими желаниями. Отбыл в совершенно радужном настроении "кормить семью" (он где-то раньше слышал это выражение). Отбыл к семье в Россию. Как Вовка кормил семью, Николаю в первый вечер ничего от него узнать не удалось: Вовка жадно поедал все, что Маша ставила на стол, поедал подряд и безо всякого разбора. Глаза его при этом нехорошо горели и, казалось, отодвинь от него ненароком тарелку и он тут же зарычит. Он сидел за столом вымытый и чисто выбритый, в толстом зеленом свитере Николая, поверх свитера была надета меховая безрукавка. Синие вельветовые дочкины брюки оказались даже велики, хотя дочь Николая фигурой походила больше на подростка. От Вовки сильно пахло дорогими духами, которые он сразу где-то откопал в комнате, которую ему отвели для пребывания. Эти духи давно на день рождения подарила Николаю дочь. Но Маша куда-то так их заставила, как только она это умела делать, что Николай просто о них забыл. А этот сразу нашел. Наверно, по запаху. Точнее, из-за своего сверхобоняния на подобные вещи.
- Что ты ему все подкладываешь? - пенял Маше Николай, - хватит! Помрет от переедания, не дай Бог! - и к Вовке: - Сколько же дней ты ничего не ел?
Но тот в ответ только рывками работал челюстями и не снисходил до ответа. Когда же трапеза в конце концов все же завершилась, Вовка поднял на Николая осовелые глаза и снова всем своим ничтожным обликом стал напоминать бомжа. Грязного и вонючего бомжа, который у тебя вот-вот попросит "сигаретку".
- Мне бы покурить немного, - как раз к моменту просяще-жалостливо выдавил Вовка. - Можно?
- Нельзя! - мгновенно отрезал Николай, которому словно влепили пощечину. - У нас не курят! А в темень на лестничную клетку нечего выходить: могут и убить. У нас тут всякое сейчас бывает. Так что терпи до завтра!
- Убьют? - испуганно переспросил Вовка, - тогда не буду.
Он стоял посреди кухни как-то неуверенно и было видно, что он не находит себе места.
- Сегодня от него проку никакого, - обратился к Маше Николай. - Ты ему постелила?
- Все самое свежее, - довольная ответила Маша. - Пусть ложится. - Она пошла показывать Вовке приготовленную постель. Тот молча последовал за ней.
Ночь для Николая с Машей прошла сумбурно. Они почти не спали, а когда ненадолго забывались в каком-то полубреду, на кухне в этот момент громко щелкал выключатель, отчего они тут же пробуждались, а в их глаза ударял яркий белый свет, попадавший к ним в комнату из кухни через стеклянную дверь. Вовка что-то шарашил на кухне, но сил встать и посмотреть не было и оба решили, будь что будет до утра. Утром уже разберутся. Лишь бы ничего не поджег. В общем, отдались на волю случая. Однако потом Маша все-таки встала и отправилась по своим малым делам. Ее так долго не было, что Николай начал уже беспокоиться и хотел было встать и выяснить, в чем дело, но тут он почувствовал, как она вошла, легонько стукнув дверью, и ощутил, как она, дрожа, забирается к нему в постель.
- Что это ты дрожишь? - спросил он тревожно. Тебе плохо?
- Заплохеет тут, - с досадой прошептала она в ответ, и Николай почувствовал в ее голосе неприязненные нотки.
- Что там такое?
- Пошла в туалет, села, чувствую, что крышка вся записанная. Тот идиот справляет свою нужду, как под забором. Вот и отмывалась в ванной ледяной водой. Не хотела тебя беспокоить и греть воду. А потом уже в туалете все отмывала. Надо же было его в порядок привести!
- Ну не среди ночи же, - не зная, что сказать, пробурчал Николай.
- А когда же? - тут же начала задираться Маша, - когда? - Но Николай не ответил и повернулся на другой бок.
- У Вовки в комнате все свет горит. По-моему он и не ложился, - все не замолкала Маша.
- Да черт с ним! Оставь ты его в покое! Спи! - Николай начал ворочаться. - Он - с дороги, новое место...
В этот самый момент со стороны вовкиной комнаты послышался глухой шум: где-то что-то упало или затрещало. Разобрать было невозможно. Николай, как ошпаренный, подскочил с постели и рванул в комнату, где Вовка по все правилам должен был давно спать: часы показывали три двадцать ночи. Но через дверь было видно, что в комнате горел яркий свет: видимо, были "врублены" все пять лампочек тяжелой люстры, до чего Николай за всю десятилетнюю историю этой квартиры ни разу не додумался. Когда же он все же нажал на стеклянную дверь, пытаясь войти в комнату, он почувствовал, что с внутренней стороны дверь была забаррикадирована стулом, который одним концом упирался в саму дверь, а другим - в спинку дивана, и не позволял открыть дверь.
- Ну и гусь! Такого у нас, отродясь, не было! - Николай стукнул кулаком в дверь. - Вовка! - послышался шум отодвигаемого стула, дверь понемногу стала открываться и в ее проеме возникла мятая вовкина физиономия. В комнате сильно пахло одеколоном и сигаретным дымом.
- Ты что тут бордель устраиваешь среди ночи? - взорвался Николай. - Спать никому не даешь! Я же тебя предупреждал, чтобы ты в квартире не курил! А откуда одеколон?
Вовка тут же воспроизвел круглые-круглые глаза и развел руками:
- А я и не курил. Где ты слышишь запах? - Вовка был одет и было видно, что он так и валялся в постели: в брюках и безрукавке, в мехе которой застряли пушинки от подушки, а белоснежный пододеяльник, любовно надетый Машей на стеганое одеяло, выглядел, словно его, бедного, неделю жевала корова.
- Ты что же, умник, меня за идиота принимаешь? - Николай, как был в одних трусах, так и пошел на Вовку. Вовка в одно мгновение выскочил в лоджию, дверь в которую оказалась незапертой.
- Не хватало мне среди ночи поднять на ноги весь дом, - подумал Николай. - Вот негодяй! Заходи же в дом! - после небольшой паузы мирно позвал он Вовку. Тот испуганно смотрел на Николая сквозь стекло с той стороны двери. - Заходи, а то замерзнешь там на улице!
Вовка не без опаски осторожно вошел в комнату, легонько прикрыв за собой дверь, но на замок ее не закрыл. На всякий случай.
- Я же тебя предупреждал, - снова начал Николай, - в лоджию - ни ногой! Не вздумай там курить! Ты разве не видел, сколько там всяких бумаг?
- Да не курил я, - пробурчал Вовка, пряча глаза.
- Тогда зачем ходил в лоджию?
- Я шубейку свою смотрел.
- В три часа ночи? Соскучился по ней? От нее и в лоджии невыносимая вонь!
- Я пошел посмотреть на свою шубейку, - гнул свое Вовка. - Что, нельзя?
Он опять наглел и Николай понял, что их разговор становится бесполезным.
- Все. Укладывайся спать! И нам, пожалуйста, не мешай. - Николай кивнул на стул, торчавший у двери комнаты: - и баррикады в доме не устраивай. У нас это не принято. Ты - не у Белого Дома.
- У какого дома? - Вовка, наконец, поднял вверх свои плутоватые глаза, но глядел куда-то вбок. - У какого белого?
- У московского, грамотей. Иди спать.
Все же Вовка еще раз "достал" его в эту ночь: Николай "прокололся" точь в точь, как и Маша, придя в туалет перед самым утром. Так же долго отмывался в ванной холодной водой и при этом, стиснув зубы, поминал всех богов и их ближайших родственников...
С тех пор, как уехала дочь с семьей, каждое субботнее утро было для Николая с Машей утром бесцельного валяния в постели часов до девяти-десяти, а иногда и просмотра давно набивших оскомину всегда одних и тех же серых телепередач. Но это субботнее утро обещало им обоим стать более интересным. Почти не спавши ночь, часов примерно в шесть (только-только начало рассветать) они были подняты на ноги страшным шумом на кухне: снова что-то со страшным грохотом откуда-то упало. Оба в чем были, выскочили на кухню. Там горел не только полный свет, но и все четыре горелки газовой плиты. На одной из них гремел прыгающей крышкой весь в пышных клубах белого пара их старенький немощный чайник. Вовка сидел на корточках перед настежь распахнутыми дверцами голубого шкафчика для продуктов и совершал какие-то манипуляции внутри него. Нечто белое было обильно рассыпано рядом с ним на полу. Николая с Машей он не услышал и спокойно продолжал заниматься своим делом. Они молча переглянулись.
- И что ты там потерял? - не выдержал Николай. Вовка от неожиданности вздрогнул, но тут же взял себя в руки, медленно поднялся и спокойно произнес как само собой разумеющееся:
- Я ищу сахар. Вот полка упала. - И недоуменно развел руками в доказательство всего произошедшего. Маша тут же ушла в спальню, не вымолвив ни слова.
- Ты что же, не способен дотерпеть до утра, пока тебя накормят? Я живу здесь и то не ведаю, что в этом шкафу делается, а ты-то чего вытворяешь?
- А что я такого делаю? - Вовка перешел на крик. - Я сахар ищу! Что, нельзя? Я чаю хочу! Что, нельзя? Да я сегодня же уеду! Вот вещи высохнут и уеду!
- Да ты еще их и не стирал. Вон лежат, замоченные, в ванной. - Тут Николай ткнул в его сторону пальцем: - Сначала ты нам расскажешь, как ты квартиру матери пропил, как своих детей оставил на улице, как превратился в бомжа, как от тебя бесконечно стонут все родственники в Москве, Харькове и Одессе, к которым ты периодически совершаешь незванные визиты, поедаешь последнее у этих нищих пенсионеров, тащишь из вещей, что не углядят по старости, да дружков-собутыльников на них натравливаешь, чтобы родственники щедро с тобою, сирым, делились. Чтобы тебе, горемычному, отдавали все, что накопили за всю свою жизнь, горбатясь от зари до зари, пока ты распивал сладкие чаи да жарил пышные яичницы из яиц, принесенных для тебя твоей немощной старой матерью, которая еле передвигалась на больных ногах и которую через улицы переводили под руки добрые люди. Вот только после этого, родненький, ты высушишь свои вещички и скажешь нам адью. Только после этого! - Николай резко развернулся и пошлепал босыми ногами по линолеуму к себе в комнату. Вовка тоже отбыл в свою опочивальню, предварительно погасив плиту и захватив из широкой тарелки, стоявшей на кухонном столе, пригоршню домашнего печенья, предмета всегдашней машиной гордости.
4.
После таких событий не спалось. Николай с Машей молча лежали с открытыми глазами, глядя в потолок и ничего не видя. Каждый думал об одном и том же: что же дальше-то? Что делать? Но хоть сколько-нибудь приемлемого ответа не находилось. Ясно одно: Вовка нагрянул не в гости к брату. Ясно также, что если его оставить у них, он их просто пустит по миру: ест за троих да дай ему еще на сигареты, выпивку. Одежды на нем практически никакой. Значит, одень-обуй. Да еще следи каждую минуту, чтобы чего не утащил из дому, не вынес на базар да не спустил. На это он большой мастер. В доме Николая никто не пил и не курил, жили они с Машей вдвоем сверхскромно. Маша, бывшая учительница, получала мизерную пенсию после так называемой перестройки. Зарплаты Николая едва хватало, чтобы расплатиться за квартиру да кое-как дотянуть до следующей. Да и у Николая был предпенсионный возраст, так что в ближайшем будущем им с Машей ничего хорошего не светило. А с Вовкой... Заставить Вовку идти работать было делом изначально бесперспективным. Ответа не находилось.
- Ладно, - вдруг промолвила, поднимаясь с постели, Маша, - давай вставать. Этот живоглот все равно нам спать не даст. Его кормить пора. - И начала одеваться. Николай молча встал с постели и направился в ванную. Дверь в комнату, где находился Вовка, на этот раз была приоткрыта, и Николай увидел, что тот, как был одетый, так и забрался под одеяло. Но кое-что было и новенькое: по самые брови он натянул на голову машину вязаную шапочку.
- И тут успел! - усмехнулся Николай. - Обшарил-таки шкаф.
Завтрак начался с неприятностей. Когда стол был накрыт, кликнули Вовку. Тот не замедлил сразу же явиться. И прямо с постели, в чем спал. Даже шапочку не снял. Желтокоричневое его лицо, изрезанное глубокими кривыми морщинами и чуть забеленное крупной щетиной, лоснилось после сна. От него исходил такой запах одеколона, что Маша, не выносившая резких запахов с рождения их дочери, сразу закашлялась и судорожно схватилась за грудь. Вовка, без слов и ни на кого не глядя, тут же уселся за стол и сразу полез рукой в хлебницу, разгребая на ходу все, что там было аккуратно уложено: выбирал себе по вкусу ломоть.
- Стоп, стоп, стоп! - сразу нарушил ход событий Николай. - Ну-ка, голубь ты наш, ступай-ка сначала в ванную и приведи себя в порядок. - Вовкина рука с надкусанным куском хлеба удивленно повисла в воздухе.
- Ступай, ступай! - Николай встал и взял его за руку. - Ты что, забыл, как ведут себя в подобных случаях? - Вовка молча положил ломоть перед собой, суетливо вылез из-за стола и как-то боком отправился в ванную.
- Не вздумай в шапке умываться! - крикнул ему вдогонку Николай. Маша все еще держалась за грудь, пытаясь кое-как откашляться. Глядя на это, Николай быстро вышел из-за стола и направился в вовкину комнату. Да, так и есть: от флакона одеколона, который уже года два как стоял нетронутым с момента его покупки, остались рожки да ножки. Николай тут же быстренько собрал всю парфюмерию, что имелась тут в комнате и перенес ее в свою спальню. Снова пришел на кухню и сел за стол. Маша потихоньку приходила в себя.
- Ну, я так и думал, - глядя на нее, сказал Николай. - Нет больше нашего дорогого одеколона. Почил в бозе! Выпит до дна! В комнату войти нельзя. Надо проветривать. Хоть святых вон выноси.
- А вот и они, собственной персоной! - Маша кивнула на входную дверь. Умытый и выбритый Вовка лишь бегло взглянул на Машу и прочно, без слов, уселся на свое место. Началась молчаливая трапеза.
Маша за стол не села, а принялась обжаривать на сковороде ломтики хлеба из хлебницы, в которой перед этим шарашил грязными руками их незваный гость. Обжарив, она складывала их в чистую тарелку, стоявшую тут же на столе.
- Ну, что ж ты дальше-то думаешь делать? - первым не выдержал Николай, обращаясь к молчаливо жующему Вовке. - Как дальше жить собираешься? - тот, не поднимая глаз, молча накалывал на вилку явно неподдающийся кусок яичницы. Наконец это ему удалось и он молча отправил кусок себе в рот, проглотил, почти не жуя, и невозмутимо принялся за следующий.
- Что же ты отмалчиваешься, чемпион по яичницам? - Николай не отставал. - А?
- Да дай ты ему покойно поесть! Что пристал! - встряла тут же Маша. - Пусть хоть одеколон заест, а то дышать нечем.
- Какой еще такой одеколон? - деланно встрепенулся Вовка. - Что вы еще придумали?
- Какой одеколон? - переспросил Николай. - А тот одеколон, что пылился на книжной полке два года и ждал, когда это ты приедешь, наконец, и его употребишь!
- Да не пил я никакого вашего одеколона! - закричал Вовка. - Не пил! Может, скажете, я и политуру пью?
- Политуру? - перебил его Николай. - Ты что же, столяр-краснодеревщик? Откуда ты знаешь про политуру?
- Откуда, откуда! Не пил я вашего одеколона! - Вовка вновь принялся, было, за прерванную еду.
- А куда же ты его дел? - не отставал Николай.
- Куда, куда! - бубнил с набитым ртом Вовка, - прыщик свой прижигал! - и он указал пальцем себе на лоб, на котором, как Николай ни старался, так ничего и не разглядел.
- Да у тебя он в голове! В мозгах твоих куцых, понятно!
- Кто? - как бы не уловил иронии Вовка, глядя вопросительно на Николая и продолжая жевать.
- Прыщ твой в голове у тебя прячется.
- Да не пил я ничего! - взревел Вовка. - Уеду я сегодня, не беспокойтесь! Вот одежда высохнет и уеду! Тут же! - он, было, встал уходить, но потом посмотрел на стол и передумал. Снова сел и продолжил завтрак.
- Одежонку свою ты, кстати, сначала выстирай. Не Маше же этим заниматься. А то твое замоченное так само никогда и не высохнет. Долго ждать нам придется, - спокойно уточнил Николай.
- Одеколон он не пил! - не удержалась Маша. - Да ты посмотри, на кого ты стал похож! Николай выглядет не старше тебя на десять лет, а моложе на пятнадцать!
- Ладно, ребята, - перебил ее Николай, - довольно пререкаться. Давайте поговорим спокойно. Ты, Вовка, перестань жевать. Вот ты хоть понимаешь, что пока ты не станешь работать, тебя никто содержать не сможет? И не из-за жадности или обиды, а просто не вытянет? Да и ты, начав работать, почувствуешь себя человеком. Заимеешь свой угол какой-никакой. Тогда и дети твои не станут бросаться на тебя с топором, выгоняя тебя на мороз в одних подштанниках. А? Как?
Вовка в ответ безмолвствовал, глядя перед собой в стенку. На лице его отражалось только одно единственное желание: перетерпеть эту очередную мораль, которых он пережил за свою бестолковую жизнь не одну тысячу, пережил от родственников и близких, от знакомых и абсолютно чужих. И что интересно: каждый из них ему твердил одно и то же: иди работай! Заладили! А он, как сказочный колобок, от всех ускользал.
- Это не так просто, - Вовка на мгновение показал свои глаза Николаю и снова его лицо облачилось в неподвижную маску.
- А ты начни, начни! - встрепенулся Николай, - мы поможем! Для начала походи по ЖЭКам. Там всегда люди требуются. У них и угол свой можно заиметь. Начни хотя бы мести дворы. Ты, я надеюсь, сможешь?
Вовка молча поднялся из-за стола, буркнул "спасибо" и удалился в свою комнату. И было непонятно, к чему относится это "спасибо": то ли он благодарил за завтрак, то ли за предложение пойти в дворники.
Прошло часа два. Николай задумчиво стоял на кухне у окна и глядел на кишащий детворой двор, на снующих по нему туда-сюда людей. Суббота. Каждый в этот выходной старался что-то сделать: одни бежали в продуктовый магазин, возвращаясь оттуда, груженные двумя-тремя сумками, другие уже успели побывать на "туче" - местном толчке, третьи вышли погреться на раннем весеннем солнышке, четвертые яростно выбивали свои небогатые ковры и от их ударов по коврам у Николая почти закладывало уши. Тут же рядом с выбивальщиками многочисленными белоснежными рядами развешивали только что выстиранное белье, не обращая никакого внимания на клубящуюся серую пыль.
Вовка из своей комнаты не выходил. Николай вспомнил свои с Машей ночные туалетные приключения и решил в профилактических целях провести с Вовкой небольшие занятия на деликатную тему, иначе события грозили повториться в ближайшие же часы. При этом оказалось, что Вовка никак не мог взять в толк "почему он ссыт неправильно", из-за чего Николаю самому пришлось показывать почти весь процесс в деталях. Но зато последующее время показало, что сей благородный труд был не напрасен. После этих занятий Вовка пошел в ванную стирать. Что он там делал, закрывшись, одному Богу было известно, но "процесс" длился несколько часов и, вероятно, продлился бы еще дольше, если бы соседи снизу не прибежали с просьбой проверить, не прорвало ли чего-нибудь, ибо их стало затоплять. В конце концов, Маша еще битый час собирала всеми имеющимися в доме тряпками воду с пола в ванной, а Николай, бросив постиранное Вовкой белье в таз, сам все это развесил во дворе. Перед соседями извинились. Да они и сами все хорошо поняли, едва увидели это чудовище в ванной. Претензий не предъявили. Только сочувственно покачали головами...
5.
В субботу и воскресенье Вовка появлялся из своей комнаты только для приема пищи. В остальные часы он валялся, не раздеваясь, в постели. Залезал под одеяло прямо с головой. На все предложения прийти и посмотреть хотя бы что-нибудь по телевизору отвечал отказом. Только попросил дать ему радиоприемник. Николай достал из-под своего стола упрятанный когда-то туда "Ленинград", выставил его Вовке, показал, как пользоваться и ушел. С того момента, похоже, приемник у Вовки не выключался. В воскресенье к вечеру вовкины вещи высохли. Николай снял их с веревки во дворе, аккуратно все сложил на табуретке и зайдя к Вовке в комнату, молча поставил табуретку с вещами у изголовья дивана, на котором спал Вовка. Молча вышел. Вовка даже головы не повернул.
В понедельник, как обычно, Николай ушел на работу в семь утра, а уже в десять его позвали к телефону: звонила Маша.
- Тут Вова хочет с тобой поговорить. Он сейчас уезжает и хочет попрощаться, - уточнила она.
- Как уезжает? И далеко?
- Потом все расскажу. Даю трубку.
- Алло, Коля! - послышался сиплый вовкин голос. - Я сейчас еду в Одессу. Там постараюсь устроиться на работу. Я, когда там был, присмотрел кое-что. Так что пока.
- Ты запиши наш адрес, а когда устроишься, сразу мне напиши, - перебил его Николай.
- Давай, - согласился Вовка.
- Маша тебе пусть продиктует, - ответил Николай. - Успехов тебе.
- И тебе, - прохрипел Вовка и положил трубку.
Спустя час Николай позвонил домой, чтобы узнать, что же все-таки вынудило Вовку собраться уезжать. Маша рассказала, что они с Вовкой утром долго беседовали.
- Ты на него действуешь, как удав на лягушку, - укорила она Николая. - Вовка решил начать работать. У нас это сложно сделать, а в Одессе есть "Привоз". Там то одному подсобит, то другому. Глядишь, на день и заработает. На угол и на еду. А там видно будет.
- Что-то мне слабовато верится в это, - засмеялся в трубку Николай. - Гляди, как бы этот орел к вечеру не заявился домой.
- Да ты что! - возмутилась Маша. - Я ему дала твою сумку. Помнишь, с которой ты ходил на работу? Положила в нее мясные консервы, банку выжарок из сала, хлеба, еще кое-чего из съестного. Положила мыла, нитки, с иголкой, бритвенный прибор твой старый...
- А в чем он уехал? - спросил Николай.
- В своем. Правда, сперва пытался уехать в твоем, но я ему без тебя не разрешила.
- А дочкины вельветки он оставил?
- Конечно, оставил! Хотя... - засомневалась она, - погоди, не клади трубку, я сейчас гляну.
Николай ждал недолго.
- Нету вельветок! - растерянно сообщила Маша. - Как же я так забыла про них!
- Ха-ха-ха! - расхохотался опять Николай. - Да ты бы и не проверила! Не станешь же ты у взрослого мужика требовать, чтобы он снял штаны перед тем, как ему выйти из дома! Ха-ха-ха! Да он просто-напросто поверх них надел свои болотные!
- Невероятно! - Маша недоверчиво дышала в трубку. - Тогда на нем сейчас четыре пары штанов?
- А он привык к таким поворотам, - не уставал смеяться Николай. - Я думаю, жди его домой вечером. Не переживай. Он поболтается по городу с твоими консервами и явится пред твои очи... Вполне возможно, что консервов при нем уже не будет...
- Ну и ну! - выдохнула вконец расстроенная Маша. - А ты вечно сгущаешь краски. Все. Пока. До вечера. - И положила трубку.
Вопреки прогнозам Николая вечером Вовка не появился.
- Уехал, бедолага, - вздыхала Маша. - Где-то он сейчас?
- Да он у твоей дочери украл совершенно новые штаны! - подтрунивал Николай. - Вот она приедет и задаст тебе!
- Да пропади они пропадом, эти штаны! - сердилась Маша. - Человека жалко!
- Жалко, - соглашался Николай, сразу становясь серьезным.
В эту ночь они, наконец-то, выспались. Легли рано, сразу после "Новостей", и проспали безмятежно всю долгую ночь. Утром, как обычно, Николай на скорую руку позавтракал и побежал на работу. На троллейбусной остановке в нетерпении толпился народ. Битком набитые троллейбусы с дымящимися шинами проскакивали с шумом мимо, едва не давя в надежде бросавшуюся им навстречу мятущуюся толпу. Обычное ежеутреннее дело. Николай решил переждать, пока немного схлынет неуправляемый поток страждущих, и, подойдя к опоре троллейбусной сети, принялся разглядывать густо наклеенные на ней объявления. Продавалось и менялось все, что угодно. Один молодой человек даже предлагал пожилым и состоятельным дамам свои мужские услуги и клятвенно заверял, что дамы останутся им довольны. Рынок есть рынок. Николай почему-то вспомнил одно расхожее изречение: "Дэнги ест - дама гуляем, дэнги нэт - жена бижим". Усмехнулся...
- Привет! - кто-то потянул Николая за рукав куртки. - А я был на Старой Почте у дяди Миши с тетей Валей! - перед Николаем стоял собственной персоной радостный Вовка. С его, Николая, сумкой через плечо. В своей неизменной серой кепочке и когда-то коричневой шубейке.
- Привет! - ничуть не удивился Николай. - У какого дяди Миши?
- Да помнишь ты его! Он тебя помнит! И тетя Валя тоже, - Вовка приготовился объяснять. - Это на нашей улице, там, где мы жили. Вспомни!
- Это второй дом от угла по нашей стороне, что ли?
- Да, да, да! - обрадовался Вовка. - Живут шикарно. Машина своя. Сажали меня в нее. Правда, сильно постарели.
- Да откуда ты их помнишь-то! Тебе лет-то совсем не было тогда! Сорок слишним лет минуло! Ты что! - искренне удивился Николай. - И место ведь запомнил!
- Да я с их Мишкой тогда бегал. Дружили. - Вовка вдруг замолчал. Потом: - А я тут вчера обошел ЖЭКи. В одном мне комнату предложили и тридцать пять лей в месяц. Дворником. А ты не мог бы, Коля, позвонить в Баку, чтобы они мне пенсию сюда выслали? Целый год не получал.
- В каком ты, говоришь, ЖЭКе был? - не слушая Вовку, спросил его Николай.
- Да вон в том, в тех домах - Вовка махнул рукой в сторону базарчика. - В сто первом.
- А... - кивнул Николай, - понятно. Ну, пока. Я уже почти опоздал.
Он опрометью бросился в подоспевший троллейбус: тот, слава Богу, не проехал мимо и в него была возможность хоть как-то втиснуться. Николай увидел, как Вовка бесцельно побрел куда-то вглубь массива домов, расположенных в стороне от остановки. "Сто первый ЖЭК появится у нас лет через пятьдесят, - подумал он. - Если все стройки вместе со строителями окончательно не перемрут к тому времени. Во что сегодня трудно не поверить".
Выйдя из троллейбуса, Николай не пошел к своей работе размеренно, как это он обычно делал, любуясь по пути утренним парком и спрятанным в глубине его огромного густого леса небольшим продолговатым озерцом. Он почти побежал, торопясь с работы "обрадовать" Машу. Она действительно "обрадовалась": охнула и сразу замолчала. Затем, как ребенок, которого в очередной раз обманули взрослые, пожаловалась:
- А он меня так уверял, так уверял! Так серьезно собирался! Пуговицы все свои перешил. Попросил в дорогу иголку с ниткой...
- Да ладно! Будет плакаться-то! Успокойся. Если придет, в дом не пускай. Смотри, не поддайся на уговоры! Я сам с ним разберусь.
- Я теперь боюсь! - запричитала Маша. - Я из дома не выйду! Ты купи, пожалуйста, хлеба, когда пойдешь с работы...
- Ничего не бойся! - раздраженно прервал ее Николай. - Сиди дома и не открывай дверь! Вот и вся твоя забота! В случае чего - звони мне! Все! Мне некогда! Извини! Пока!
День для Николая прошел без телефонных звонков от Маши. Вечером, идя с работы домой, он зашел по пути в магазин, купил два белых батона, сунул их в сумку и заторопился к остановке. Потом сбавил шаг: раньше надо было спешить, чтобы успеть на телепередачу "Час пик", а теперь... Совсем недавно, ровно первого марта, убили ведущего этой передачи Влада Листьева. Весь бывший Союз уже не штурмует после работы общественный транспорт, боясь пропустить полюбившуюся телепередачу... Рынок, мать его...
В конце концов Николай благополучно добрался до своего подъезда, поднялся на лифте на восьмой этаж и, поднимаясь по леснице на свой девятый, внимательно смотрел вперед и по сторонам: Вовки нигде не было видно. - Уехал, наверно, все-таки, - едва успел подумать Николай, подходя к двери своей квартиры и машинально поворачивая голову налево, на лесницу, ведущую вверх к машинному отделению лифта. На ней прямо посередине на ступеньке сидел Вовка, держа на коленях знакомую Николаю сумку.
- Ну и что ты тут сидишь? - спросил Николай, нажимая на кнопку дверного звонка. - Ты же, кажется, уже должен быть в Одессе?
- Так я же пошел к дяде Мише. Как я мог поехать? - пробурчал Вовка в ответ.
- А ЖЭК? - продолжал Николай.
- Я завтра уеду, - гнул свое знакомое Вовка. - Я же был у дяди Миши. Да и куда я сейчас пойду? На вокзал нельзя: там билет требуют, а у меня денег нет, - резонно заключил он.
- Это - твои проблемы, - по-современному, уже по-рыночному парировал Николай. - Ты знал, что делал. Но в квартиру я больше тебя не пущу.
- Я же ему еще и денег, как порядочному, в дорогу дала! - Маша уже стояла в дверях. - Как тебе не стыдно!
- А я с тобой не разговариваю! Я с братом разговариваю! - услышал уже почти за спиной Николай и молча закрыл за собой тяжелую железную дверь. Вовка так и остался сидеть посреди лестницы в сумерках наступающего вечера.
Ужинали они с Машей молча. Так же молча Николай включил телевизор и глядел в него, ничего не понимая, ничего не слыша, словно перед ним было пустое пространство. Пришла Маша, села рядом и тоже глядела, словно в пустоту. Так они и просидели молча, не выключая света, перед работающим телевизором до самых вечерних "Новостей".
- Если мы сейчас уступим и пустим его, - не выдержала Маша, - то все начнется сначала, и мы никогда, никогда, до самой нашей смерти не избавимся от него. Он и нашу квартиру потом продаст и пропьет. - Она вышла на кухню. Потом снова тихо зашла и, заглядывая в глаза Николаю, шепотом спросила:
- А может мы этого дурака все-таки пустим? Как же он там один, в темноте, ночью, на холодной чужой леснице? Он же, наверно, голодный! А кто ему хоть попить даст? Кто в туалет пустит? А, Коля? - Маша снова отправилась на кухню, не дождавшись от Николая никакого ответа. А Николай молчал. Сейчас он видел небольшой кубанский горный поселок Нефтегорск, бабушкину хатенку под крутой горой. Из этой хатенки под самый Новый год увела его на ночь к себе соседка тетя Шура Пустоварова, потому что в их хатке начиналась какая-то непонятная ему суета вокруг матери. Как наутро он вернулся домой и ему показали завернутое в новенькие синенькие пеленки спящее краснолицее существо. "Твой братик", - сказала ему бабушка. Как он, Николай, приставал к матери, чтобы брата назвали Вовкой и, как спустя три месяца, этот самый Вовка уже умирал там, у них дома, задыхаясь от двухстороннего воспаления легких, а мать колола и колола ему уколы, колола в его маленькую, домиком, грудку, а он даже не плакал, а только издавал при этом какой-то натужный звук "ы-ы-ы", а Николай, предчувствуя близкий конец брата, убежал и забился в отчаянии в копну сена в бабушкином сарае и горько, горько плакал...
- Не могу! Не мм-м-о-гу! - зарыдал Николай, и крупные слезы ручьями покатились из его ничего не видящих глаз. - Не ммо-гу! - застонал он, обхватив дрожащими руками свою рано поседевшую голову и сотрясаясь от рыданий. - Ой-ей-ей-ей!...
- Что с тобой, Коля! - Маша вбежала на этот стон и начала трясти Николая за плечи. - Коля, что с тобой? Приступ? Коля? - и вдруг, догадавшись, пронзительно, по-бабьи, заголосила, как по покойнику: - Ой лихо мое, лихо! Ой, да что же с нами происходит! За что же нас так! Ой, что же мы наделали-то! Что же мы наделали-и-и-! Ой-ей-ей! Ой, лихо-о-о!
А Вовка в это время уже безмятежно спал на площадке перед дверью в машинный зал лифта, согнувшись калачиком на своей куценькой свалявшейся шубейке, подложив себе под голову где-то подобранную им по случаю коробку из-под "сникерса". Ему снился Баку, Шиховский пляж, теплое ласковое море, пахнущее свежей нефтью, и мама, протягивающая ему огромный кусок лаваша, густо намазанный желтым сливочным маслом и крупной черной зернистой икрой....
26.03.1995 г. Кишинев
Ночной тать белой масти
Нервно-прерывистый и резкий, как автоматная очередь, трезвон дверного замка и нетерпеливое глухое буханье в тяжелую железную дверь - непременный атрибут современного общественного бытия (эпохи цинизма и человеческих пороков) - оторвал бабушку с дедушкой от вечерней трапезы. Оба недоуменно переглянулись и бабушка, кряхтя и вздыхая, тяжело вылезла из-за стола и медленно и недовольно направилась в прихожую.
- Кто? - хрипло спросила она, - кто там? - прокашлявшись, повторила она свой вопрос уже чистым молодым голосом.
- Это я, бабушка! - услышала она тоненький голосок внучки и принялась вертеть вправо черную защелку дверного замка. Когда дверь с казематным звуком, наконец, отворилась, черноглазая, стриженая под мальчика, с челкой, как у болонки - до самых глаз, девчушка восьми лет молча шмыгнула мимо бабушки и тут же закрылась в туалете.
- Приспичило, - благодушно сказала бабушка и с тем же казематным гулом, что и отворяла, захлопнула бронированную дверь.
- Приспичило Ксюшке-то, набегалась, поди, - улыбаясь, сообщила она дедушке, входя на кухню и снова садясь за стол. - Вырвалась, наконец, из под материнской опеки. Совсем очумел ребенок, - добавила она осуждающе и, не обращая внимания на дедушкино молчание, принялась за прерванный ужин.
- Мать-то еще в поезде - на пути к своему дому. Мается, поди. Как она там доберется до дома? Да еще эта пересадка в Москве! Да ладно в Москве-то! - никак не унималась бабушка. - Вон высадят в каком-нибудь Брянске: рожа может им не подойти! Чай, девка-то, как никак, из-за границы теперь возвращается! Хотя и из-за новоиспеченной, да это им не указ! Ох, и наделали дел! Ох, и понаделали!..
Дедушка никак не реагировал на все происходящее и продолжал механически жевать, задумчиво глядя куда-то в пустоту: у него были свои проблемы. До пенсии оставалось полгода, на дворе вовсю буйствовали "рыночные отношения", в которые он ни по каким меркам не вписывался. За сорок лет своей непростой работы он так и не сумел понять со своими двумя "высшими", почему один человек должен быть волком по отношению к другому.
"Выживает сильнейший, как в природе", - цинично, с напором. прилюдно на всех углах заявляют совсем недавние бывшие высокие чины, которые и теперь столь же высокие и которые в один момент превратились из очень красных в очень белых, желтых, серых, коричневых и со множеством иных оттенков "новых". "И в депутатов, в доллары одетых", - усмехнувшись, вдруг вслух произнес дедушка слова одной из своих песенок, которую он в минуты хорошего настроения пел себе под гитару.
- И депутаты, и депутаты тоже, - тут же подхватила бабушка, - хороши! Я б...
- Иди зови Ксюшку ужинать, - прервал ее дедушка. - Что-то она там застряла...
- И ничего я не застряла, дедушка! - Ксюшка стояла на порожке кухни тоненькая, как только что проросший и еще не окрепший стебелек. - Я... - Лицо ее вдруг некрасиво и не по-детски искривилось, и она вдруг разрыдалась, почти что заголосила, чего с ней за те несколько лет, что родители привозили ее на лето "к старикам", никогда не случалось.
- Ды ты что это, золотко? - тут же засуетилась бабушка, безуспешо пытаясь побыстрей выбраться из-за стола. Но мешала кухонная плита, упиравшаяся ей почти что в спину, да нахлынувшая внезапно откуда-то непонятная тревога, которая путала ее движения.
- Что там еще случилось? - привычно задал вопрос дедушка. - Гляди-ка, как твоя бабушка снова расправляет над тобой крылья! Да перестань ты реветь и скажи толком!
-- А вот и не скажу, - захлебываясь в рыданиях, прокричала Ксюшка. - Вот и не скажу! Я только бабушке одной скажу! - тут же поправилась она и обеими тоненькими ручонками обхватила бабушку, уже успевшую к тому времени, наконец-то, выбраться из-за стола. Уткнувшись своей челкой в мягкий бабушкин живот, Ксюшка немного успокоилась, и они с бабушкой ушли в ксюшкину комнату.
Дедушке больше не елось, он механически вымыл посуду, подошел к окну, выходившему во двор их дома, и принялся, как обычно, безразлично оглядывать двор. С высоты их последнего этажа двор походил на растеленное на земле огромное панно, на котором были запечатлены различные картинки, словно вырезанные из одного учебника по английскому языку, хранящемуся у дедушки еще со студенческих времен: группами по нескольку штук - машины, большей частью - иномарки. Между машинами "бесилась" детвора. Те, что побольше, гоняли мячи разного калибра. Мелюзга висла на разного рода перекладинах, обильно рассыпанных по двору, или носилась друг за другом. Уже не по-английски на скамеечках сидели мамы с малышами и старушки, а рядом в нескольких местах оглушительно выбивали ковры, не обращая ровно никакого внимания на развешенное тут же длинными рядами для просушки белоснежное выстиранное белье... В дальнем углу двора стоял яркосеребристый фольксваген, вокруг которого было полно разного сорта детворы. Там же несколько мужчин и женщин, явно что-то обсуждая, нервно размахивали руками.
- ЧП там что ли какое, - механически подумал дедушка и перевел взгляд на противоположную часть двора, где дивно алели крупные розы, а старая крутая иномарка толчками пыхала на них темносизым дымком. Современная городская пастораль...
- Ну, нет уж! Больше ты на улицу - ни шагу! - услышал дедушка грозный бабушкин голос. - Ни шагу! Я в ответе перед твоей матерью за тебя! Ты знаешь, что она натворила? - бабушка была уже на кухне, крепко держа за руку мелко дрожавшую заплаканную Ксюшку. - Нет, ты подумай, что она натворила! - бабушка наступала уже на дедушку. - Уму непостижимо! Это девочка в восемь-то лет! У-му не-по-сти-жи-мо! - Раздельно, четко, по слогам отчеканила бабушка, резко дернув Ксюшку за ручонку.
Дедушка всегда на подобные дела реагировал довольно вяло и поэтому, продолжая глядеть во двор, не оборачиваясь, спросил:
- Ну что там трагического еще произошло?
- Я разбила стекло у машины! - громко зарыдала Ксюшка и, несмотря на бабушкин грозный вид, вновь обхватила ее своими ручонками, ища у нее твердой защиты от уже надвигающейся на нее беды.
- Только этого нам не хватало! - дедушка резко оторвался от окна и повернулся к бабушке с Ксюшкой. - Как же ты умудрилась? - недоверчево спросил он. - И чем?
- Чем, чем! - раздосадованная его непонятливостью в таком простом деле, передразнила его Ксюшка. - Камнем, вот чем! - и вновь залилась слезами.
- Да что ты ревешь-то, ровно корова! - встряла бабушка. - Объясни толком дедушке, что и как!
- Не может быть! - не поверил дедушка. - Во дворе и камней-то нет. Да и что ты с ним делала? С камнем-то что ты делала?
- Что ты делала, что ты делала! - опять начала передразнивать непонятливого дедушку Ксюшка. - Не понимаешь что ли?
- Не понимаю, - искренне сознался дедушка.
- Мы абрикосы с дерева сбивали, вот что! Да объясни ты ему, наконец! - забыв про плач, Ксюшка раздраженно дернула за рукав уже начинающую вдруг по-настоящему понимать, что же все-таки на самом деле произошло, и оттого одеревяневшую бубушку. А бабушка в этот момент думала о своей мизерной учительской пенсии, которую и выплачивают-то не во время, о том, что стекло это, будь оно проклято, потянет на десять-пятнадцать ее пенсий, а дедушкино предприятие вот-вот закроется, хотя и сейчас он получает не намного больше бабушки, а работает, как вол, чтобы хоть как-то успеть дотянуть до пенсии... Да тут еще мировой капитализм вынуждает наших "отцов" повысить пенсионный ценз... "Как станем доживать?" - молчала бабушка, не слыша ксюшкиных приказов...
- Что тут объяснять? - очнулась бабушка от своих невеселых мыслей, - что тут объяснять? Сбивали они с дерева абрикосы камнями... Господи! Да хоть бы спелые были-то! Ведь одна же зелень! Хоть бы дали им вырасти! А тут подъехал один крутой на иномарке, поставил ее рядом с деревом и ушел.
- А что, там взрослых никого не было? - спросил дедушка у Ксюшки.
- Да какие взрослые, какие там взрослые! Что ты вопросы-то непутевые задаешь ребенку! Взрослые! Да она, когда забегается, себя-то не помнит! Нешто она видит, что вокруг нее происходит?
- Вижу я, бабушка, все вижу! - Ксюшка снова накуксилась и отошла от бабушки.
- А сколько вас там охотилось за этими абрикосами! - продолжал интересоваться дедушка у Ксюшки. - Ты одна, что ли, была? - Ксюшка насупилась и замолчала. - Одна, что ли была? - тверже повторил свой неудобный вопрос дедушка. - Отвечай!
- Одна, одна, - пробурчала Ксюшка, - мы были с Настей и с Ленкой.
- С какой еще Ленкой? - спросил дедушка.
- С какой, с какой! Ты ее не знаешь! Она - моя новая подружка! Ты же вообще во дворе никого не знаешь! - заключила Ксюшка свой ответ бабушкиными словами.
- Хорошо, - терпеливо допытывался дедушка. - А кто-то, кроме вас троих, еще был? Или вас было только трое?
- Да нет же! Ну, бабушка, скажи!
- Были там еще две девчонки. Большие уже, - выручила Ксюшку бабушка. - Она тех не знает.
- И что, все бросали камни? - дедушка не отставал.
- Все, - односложно ответила Ксюшка.
- А почему ты решила, что именно твой камень упал с дерева на стекло? Вы же все бросали, не так ли?
- Так, так! - Ксюшка не на шутку начала сердится: этот дедушка был очень непонятлив! - Я видела сама, не понимаешь? - и в подтверждение своей раздраженности сделала своей ручкой определенный жест. Но дедушка на это никак не отреагировал.
- А среди камней, которые летели с дерева, ты узнала свой камень? - ехидно спросил он. - Кстати, а не у той ли машины собралась толпа? - дедушка подвел Ксюшку к окну и показал на серебристый фольксваген, вокруг которого толпился народ. Ксюшка мельком испуганно взглянула в сторону, куда указывал дедушка, и дважды молча кивнула головой.
Тем временем толпа вокруг фольксвагена пришла в движение и потекла через двор по направлению к подъезду, от начала которого бабушкину с дедушкой квартиру отделяла всего только небыстрая езда на вечно заплеванном и записанном людьми и собаками лифте, кнопки пуска которого внутри кабины, расположенные на грязной панели, некогда белые, теперь всегда были все в черной саже и наполовину обгоревшие. Ксюшка, увидев эту толпу, во главе которой радостно бежали те, с кем она еще совсем недавно метала камни в абрикосы, сразу стала бледной, опрометью бросилась в свою комнату и забилась там под письменный стол. Бабушка, до этого молча слушавшая нервный диалог Ксюшки с дедушкой, тоже подошла к окну и, охнув, заметалась по кухне, не зная, что предпринять.
Не открывай, - строго приказал ей дедушка. - С толпой мы разбираться не будем. Скажи им, что уже темновато на лестнице. Пусть тот, кому надо, приходит завтра.
- Может, ты выйдешь? - у бабушки от волнения начали постукивать зубы.
- Делай, как сказано! - отрезал дедушка. - Пусть успокоятся сначала! Пострадавший один должен прийти, а не тащить за собой толпу! Ты что, не помнишь, как нам не так уж давно ставили крестики на двери и почтовом ящике, помечая тех, для кого на центральной площади города гремел лозунг "Чемодан-вокзал-Россия"! Возможно, что эта толпа - продолжение того же. К тому же я далеко не уверен, что именно ксюшкин камень попал в стекло. Она из всех там - чужая, приезжая. На нее могли все свалить местные дворовые. А ребенка запугать - ты сама понимаешь... - Дедушка повернулся спиной к бабушке и стал смотреть в окно. Было слышно, как внизу загудел лифт и через короткое время ухнул, остановившись этажом ниже. Почти сразу же в дверь раздался длинный угрожающий звонок...
- Кто там? - подойдя к двери, с дрожью в голосе спросила бабушка.
- Ну, как вам сказать... - замялся мужской голос за дверью. - Откройте, поговорим.
- А кто вы?
- Откройте! - голос за дверью отвердел. - Поговорим насчет вашей девочки.
- Извините, но сейчас уже темновато на леснице. В наше время, сами знаете, как открывать дверь незнакомым людям. Приходите завтра утром, - заключила бабушка и отошла от двери. Дедушка все смотрел в окно, словно не замечал происходящего. Ксюшка, закрыв личико ручонками, еще глубже забилась под стол в комнате. Бабушка пришла на кухню и молча опустилась на табуретку. Повисла гнетущая тишина. За дверью тоже было тихо. И вдруг, как по команде, по двери сильно забухали многочисленные удары, гулко отдававшиеся по всей квартире, начал непрерывно звонить звонок, послышались беспорядочные детские крики, из которых ничего нельзя было разобрать.
- Вы что там хулиганите? - подбежала к двери бабушка. - Что вам надо? - гам и шум на мгновение смолкли и тут, видимо девочка - подросток, срывающимся голосом нервно и требовательно прокричала:
- Пусть Ксюша выйдет!
- Никуда Ксюша не выйдет! Уже поздно! - строгим учительским голосом ответила в дверь бабушка. - Идите, девочки, домой. - Гам, буханье в дверь и непрерыный стрекот звонка мгновенно возобновились пуще прежнего. Ксюшка от испуга принялась истерически кричать у себя под столом, бабушка сильно побледнела. Дедушка, плохо соображая, что делает, стремительно рванулся к двери, автоматически рванул вправо защелку, с силой ударил в дверь ногой и выскочил на лестничную площадку. Он увидел, как отлетели к противоположной ее стороне двое пацанов и девчонка - все почти с него ростом. Вся детвора, видимо толпившаяся до этого на лестнице и помогавшая бухать в дверь этой троице, мгновенно пустилась наутек вниз по лестнице. За ней тут же хватила и троица. Внизу, на промежуточной между этажами площадке, прижимаясь к боковой стенке, чтобы его не было видно в дверной глазок, остался стоять короткостриженый, с уже резко обозначившимися залысинами белобрысый парень лет тридцати в длинных до колен кремовых шортах, белой домашней майке и сандалиях на босу ногу. Он снизу исподлобья глядел на дедушку.
- Что же это вы тут организуете вторжение в чужую квартиру? Законов не знаете? Или мне полицию вызвать? - задыхаясь от возмущения, закричал дедушка. - Вам же сказали, что приходите завтра утром! Ребенок от страха бьется в истерике, бабушку вот-вот инфаркт хватит, а... - Дедушка не находил слов. На площадку выбежала бабушка.
- Вы что же это безобразничаете? - тихо сказала она парню и заплакала. - Неужели нельзя прийти утром, а не пугать нас, на ночь глядя?
- Ваша дочка, - начал неуверенно парень, обращаясь к дедушке и медленно поднимаясь к нему по лестнице, - ваша дочка разбила стекло моей машины...
Не дойдя трех ступенек до дедушки, он остановился, вопросительно глядя на него.
- Во-первых, это моя внучка, - сердито поправил его дедушка, - а во-вторых, с чего это вы взяли, что именно она это сделала?
- Она единственная тут среди детей чужая, временная, приезжая, - перебила дедушку бабушка, - вот они на нее все спихнули!
- Причем тут дети! - уже раздраженно продолжал парень и полез в задний карман своих кремовых шорт. - Вот! - сунул он под нос дедушке развернутое удостоверение, на котором в сгущающихся сумерках да еще без очков дедушка все равно ничего бы не разобрал. - Вот, - держа перед дедушкой распахнутые корочки, продолжал парень, - я работаю в полиции и сам видел, как именно ваша дочка бросила камень вверх, пытаясь сбить абрикосу. Камень отскочил и упал на стекло моей машины.
- Очень интересно! Полицейский, страж Закона, организует толпу, чтобы та врывалась в квартиру! Очень показательно и современно! - Дедушка больше не находил слов и замолчал, разведя руками. - А вообще при чем тут ваша работа в полиции? - опять наивно возмутился дедушка. - Разве там не было взрослых? И вы, в частности, который видел, не могли сказать детям, чтобы они не бросали камни там, где не положено? Где вы были?
- Ну... - на долю секунды замялся парень, - я только подъехал, оставил машину, забежал домой, выбегаю...
- А камень вот он, летит! - закончил за него дедушка.
- Да я видел! - совсем раздражаясь, заговорил парень. - И все, кто там был, видели! Так что давайте миром решим этот вопрос: вы мне платите за разбитое стекло и расходимся!
- Да чем же мы заплатим-то! - почти что заголосила бабушка. - С наших двух пенсий? Да...
- Меня это мало интересует, - тут же прервал ее парень. - И потом, - мягко, почти вкрадчиво и привычно добавил он, - я же вам ясно сказал: работаю в полиции. Если мы сейчас не договоримся, у вас завтра же начнуться проблемы.
- Да откуда же мы вам возьмем столько денег? - не сдавалась бабушка. - Из вещей и то ничего путного не осталось. Живем почти впроголодь! Вон спросите у соседей! - Тут молчавший до этого дедушка встрял: - Тут так стучали в дверь и сама т ы так кричишь, что уже должен был бы сбежаться сюда весь дом, однако что-то никого не видно!
- Да перестань ты! - отмахнулась от него бабушка. - Люди не хотят вмешиваться, может. Вон спросите у соседей, как я всю зиму, чтобы нам как-то выжить, сидела с чужим трехлетним ребенком по двенадцать часов да еще вела домашнее хозяйство у его родителей только за еду! Откуда же нам взять денег?
Парень молча смотрел на бабушку с дедушкой, потом нехотя повернулся и начал медленно спускаться по ступенькам к тому месту, на котором его недавно обнаружил дедушка. Затем он остановился на том месте, постоял в некотором раздумье, присел на корточки и принялся молча глядеть в узкое окошко площадки сквозь прикрывающую его металлическую решетку.
- Вспомнил свое, родное, - невольно подумал о нем дедушка. - Пауза продолжалась, как показалось дедушке с бабушкой, довольно долго, почти вечность. Парень продолжал в той же позе молча глядеть в окошко сквозь решетку, а бабушка с дедушкой тоже молча стояли у распахнутой настежь двери. Наконец, парень, не поднимаясь с корточек, повернул свою белобрысую голову к дедушке с бабушкой и с неприкрытой угрозой произнес:
- Я же вам сказал: у вас начнутся проблемы... Я работаю в полиции... Непонятно?
- Нам всем это давно понятно, - спокойно произнёс дедушка. - Не первый день живём на этом свете. Вам оно видней, полицейским, чей камень из десятка брошенных вверх, упал на ваш потом и кровью заработанный "Мерседес". И двери вам должны открывать по первому требованию, не то вы толпу организуете и пустите её впереди себя... Да отдай ты ему нашу центрифугу! - вдруг повернулся дедушка к бабушке. - Не то этот блюститель изведёт нас вконец!
-Кк-как-ую? - запинаясь, охнула бабушка. - Какую еще центрифугу? - переходя почти на крик, повторила свой вопрос бабушка. - Это единственное, что я берегу на черный день! Хоть какие-то деньги! Пять лет не распаковываю, стираю и отжимаю все своими руками, а руки-то вон они какие! - бабушка заплакала. - Ты вон не стираешь! - бабушка плакала и тыкала своими сморщенными от долгой и трудной жизни усталыми маленькими руками дедушку в грудь. - Ты не стираешь, ой как не стираешь! Что же мы делать-то станем без центрифуги? - горькие слезы заливали бабушке глаза, и она согнулась, чтобы утереть их концом подола своего старенького, давно потерявшего всякий цвет, халата. Парень немного привстал, оторвался от окошка и заинтересованно посмотрел на дедушку с бабушкой. Потом поднялся в полный рост и медленно, по-лисьи, как и перед этим, прощупывая каждую ступеньку, пошел к ним вверх. Дойдя до предпоследней, остановился и спросил дедушку, как ни в чём не бывало:
- А что я стану делать с центрифугой?
- У нас больше ничего ценного нет, - уже спокойно ответил ему дедушка. - И денег нет, - добавил он. - Так что берите центрифугу и разойдемся, как вы говорите, миром.
- Не отдам я центрифугу, не отдам! - плача, закричала бабушка, - не отдам!
- Не нужна мне ваша центрифуга! - тоже заупрямился парень. - Сколько она стоит? Что я с ней на базаре, что ли, в форме стоять буду?
- Тогда подавайте в суд. Другого выхода нет, - вздохнул дедушка.
- Зачем же в суд? - сразу встрепенулся парень. - Давайте мирно. Я же не злодей.
- Не злодей, а у людей последнее отбираешь! - всё плакала бабушка. - Причём - бездоказательно! По собственному своеволию! Только потому, что - полицейский!
- Да отдай ты ему центрифугу, - мягко сказал дедушка бабушке. - Отдай Бога ради. Выживем как-нибудь. Отдай! - и повернулся к белобрысому: - Берите, прошу вас. Она совершенно новая, нераспакованная. Берегли на черный день. Вдруг денег совсем не будет! Берите! Для нас этот день как раз и настал.
- А как я ее понесу через весь двор? - неожиданно спросил белобрысый. - Пускай хоть побольше стемнеет.
- Ну вот, - обрадовался дедушка, - можете прийти завтра утром, когда все спят, и забрать. Я встаю рано.
- Нет! - наморщил лоб парень, - лучше, когда совсем стемнеет, я пришлю соседа, он и заберет.
- Прекрасно! - дедушка тут же побежал в дом и сразу вернулся, неся перед собой большую коричневую коробку. - Вот! - поставил он, тяжело дыша, коробку перед парнем. - Вот она наша избавительница! - бабушка не вмешивалась.
- Ладно! - махнул рукой белобрысый и принялся спускаться к лифту.
Дедушка побежал назад успокаивать Ксюшку, а бабушка одна осталась на площадке с центрифугой, прощаясь со своим последним ценным имуществом. Стояла почти в полной темноте: они и не заметили, что пока шли "переговоры", на улице стемнело. Сквозь узкое окошко площадки на старенькое бабушкино лицо, по которому текли тихие слезы, падал бледный свет уличного фонаря... Пока дедушка успокаивал Ксюшку, тяжело хлопнула, защелкиваясь, входная дверь и вошла заплаканная бабушка.
- Все, забрали, - с тяжелым вздохом сообщила она. - Приходил какой-то по пояс голый мужик. Унес, - повторила она после небольшой паузы. Дедушка подошел к окну на кухне, потом вернулся, выключил свет, снова подошел к окну. Стал смотреть вниз на слабо освещенный опустевший двор.
- Смотрите, смотрите! - вдруг позвал он Ксюшку с бабушкой, - смотрите, вон они, ночные тати! - Через пустынный двор уверенно шагал белобрысый, а за ним, совсем не чувствуя тяжести коробки, вразвалку двигался крепкий полуобнаженный мужик...
05.07.1997 г. Кишинев
Земляк
1.
Немец вошел во двор бесцеремонно, нагло, как привык он это делать всегда. Короткий автомат болтался у него на правом плече. Он дернул на себя легкую, как и весь плетень, из сухой лозы калитку и оказался во дворе. Поведя по двору ничего не выражающими навыкате глазами, он, надвинув себе на лоб за длинный козырек свою пыльную мышиного цвета фуражку-пирожок, и придерживая рукой автомат, молча направился мимо нас с Сашкой прямо к катуху, в котором глухо об стенку, похрюкивая от удовольствия, чесалась огромная черная сашкина свинья. Только-только мы с Сашкой пригнали наших свиней с толоки, и я, передав свою на попечение бабушки, махнул через перелаз к Сашке во двор. И вот он, немец...
- Эх, был бы Трезор, качан ему в лоб, - сквозь зубы процедил Сашка и, зачем-то оглядывая двор, решительно двинулся вслед за немцем.
- Сашка! - позвал я его. - Ты че?
- Беги домой, Борька! - не оборачиваясь, скороговоркой бросил Сашка. - Нехай бабка вашу свинью схоронит, а то этот и до вас... - И вдруг побежал прямо к немцу, который уже вынимал задвижку, запирающую дверь в катух.
- Стой! - закричал он не своим, каким-то ломающимся голосом, подбегая к немцу. - Стой, дядя!
На меня напал столбняк, и я стоял, окаменев, ровно на том месте, где нас с Сашкой застал, когда вошел во двор, немец, а тот, словно глухой, отшвырнув в сторону вытащенную задвижку, деловито тянул на себя дверцу катуха.
- Стой, дядя! - Сашка, запыхавшись, вцепился в ручку дверцы, оказавшись впереди немца. - Стой! Без мамки не дам! Что же мы исть тогда будем? - глотая слова и закрывая спиной чуть приоткрывшийся проход в катух, закончил он, тяжело дыша. Немец, словно машина, перед которой неожиданно возникло препятствие, без всякого выражения на худом лице левой, свободной рукой, начал отодвигать Сашку в сторону, ухватив того своими крепкими длинными пальцами за шею. Да не тут-то было! Сашке шел уже шестнадцатый год и, хотя он был вполовину меньше длинноногого немца, стоял неподвижно, как вкопанный в землю чурбачок. Совиные глаза немца начали наливаться кровью, он натужно засопел, но сдвинуть с места Сашку не смог. Неожиданно он ударил Сашку прямо в лицо кулаком правой руки. От резкого движения автомат у него сорвался с плеча и повис на кулаке. Сашка, заливаясь кровью, брызнувшей из разбитого носа и лопнувших от такого удара губ, медленно осел на землю.
- Вэк! - заорал немец. - стрельять! - и принялся оттаскивать обмякшего Сашку от дверцы.
- Не тронь его, фриц! Не трогай, гад! - я как-то мгновенно разморозился и кинулся, ничего не соображая, на здоровенного немца.
- О-о-о! Киндер! - немец бросил Сашку, поймал меня, пятилетнего, за руку и, как муху, поднес меня к своему пришлепнутому носу. - Корошо! Корошо! Гут! - и не успев ничего сообразить, от сильнейшего пинка я оказался почти на том же месте, откуда только что бросился на немца в атаку. Жуткая боль меня почти оглушила. До самых глаз все будто залепилось горячей июльской пылью пополам со слезами бессилия и ненависти. Но именно она, эта недетская, всю душу сжигающая ненависть и спасла меня, заглушив собой страшную тупую боль и вдохнув в неподвижное худое ребячье тельце тугие силы мести врагу. Военные годы и для детей - тоже один за три!
Кое-как я поднялся на ноги. Из катуха несся испуганный визг свиньи и злобное лаянье немца: он никак не мог ее вытащить наружу. Свинья, чувствуя неладное, истошно визжала, упираясь копытцами посреди дверцы. Немец пятился задом, таща свинью обеими руками за уши. "Как настоящий волк, - подумал я, вспомнив бабушкин рассказ, что волк, пробравшись в катух, выводит из него свинью, держа ее зубами за ухо, подгоняя ее ударами своего хвоста. - Точно, как волк!"
Дальше все произошло еще быстрее, чем я долетел от пинка немца до своего местонахождения: у дверцы катуха искрой мелькнула цветастая сашкина рубаха, и я увидел, как Сашка ударил пятившегося задом немца чем-то по голове. Немец сразу ткнулся лицом в порог и начал сучить ногами. Сашка отскочил в сторону и глядел на корчившегося в судорогах немца. В руках он держал наготове старое замызганное ведро. Я снова окаменел. Наконец, немец вытянулся и затих. Сашка осторожно, на цыпочках, будто боясь, что тот услышит, все еще не выпуская ведро из рук, подошел ко мне. Лицо его, все измазанное в крови, сильно распухло. На рубахе спереди - кровь.
- Братка, - шепотом произнес он, - братка... Я немца этого... убил, качан ему в лоб! Вот, ведром с сухой известкой! - и он стал поднимать в доказательство ведро к моему лицу. Рука его сильно дрожала. - Вот видишь, тяжеленное, как камень. Сразу, гад, засучил ногами! - добавил он после короткой паузы. - Надо его того... Быстро схоронить. А то мамка должна вот-вот приттить. Подсоби. - А я будто врос в землю. Сашка забросил ведро в огород и повернулся ко мне, взяв меня за плечо: - Да ты очнись, братка, очнись!..
Я открыл глаза: меня легонько тряс за плечо мой спутник Василий Семенович.
- Вставай, Борис, - прошептал он, увидев, что я, наконец, проснулся, - подъезжаем. Хотя стоянка поезда и большая, да вещей у нас порядком. Пока выберемся... Давай, давай, вставай! - и он, уже одетый, умытый и вообще собранный, иронически посмотрел на меня: - Тебя не добудишься! Стонал ты чего-то. Снилось, небось, что с полки падаешь? - он рассмеялся.
- Да нет, другое, - неохотно ответил я, пытаясь кое-как сесть в узком пространстве между второй и третьей полками. - Сколько еще ехать-то?
- Давай побыстрей, по-военному. Минут через десять будем на месте. Постель собери, а то проводник ходит, ворчит.
- Ладно, сейчас. Поворчит и перестанет, - буркнул я, слезая с верхней полки. - мне бы его заботы.
- Да какие у тебя-то заботы? - шутливо возмутился Василий Семенович. - Ты - отпускник. Сейчас вот выйдем на станции, возьмем такси, приедем к хозяину, мою машину нам он подготовил. Немного передохнем, побалагурим для приличия, а потом - в машину и назад - домой. Автоходом! Не торопясь! Прогулка! Кавказский хребет! Черноморское побережье! Пальмы! Магнолии! Загорающие шоколадные девочки! Я хоть и пенсионер, но все же... А ты почти молодой человек...
- Тише, людей перебудите, - прервал я его монолог, затягивая ремень на брюках. - Во-первых, мы же поедем через Баку на Ростов. Какие еще загорелые девочки? А во-вторых, я-то, конечно, молодой, да вот животик, да сорок пять лет немного мешают, - закончил я его тоном, - а так ничего.
- Да пошутил я насчет моря и девочек, - внезапно посерьезнел Василий Семенович и тут же заторопился выносить свои тяжелые чемоданы в проход. Мы подъезжали к началу нашего авантюрного путешествия.
2.
...Давным-давно, когда мне было лет двенадцать-пятнадцать, моя мать работала вместе с женой Василия Семеновича Таисией. Больше того, они дружили. И всё старались подружить нас со Славкой, сыном Василия Семеновича и Таисии, но ничего у них из этой затеи не выходило: холеный, всегда хорошо ухоженный, посещающий престижную школу, при отце, занимающем высокий и хлебный пост, и при многочисленной однофамильной родне, которая была постоянно на слуху в республике, надменный Славка и я - безотцовщина, воспитанник улицы и частых, отчаянно злых драк и не менее злых порок навьюченной заботами и постоянным устройством личной жизни матери, я и Славка - мы были, как из двух разных миров. Я видел, что подружить нас больше старается моя мать. И как всякая мать, она изо всех сил пыталась показать, что и ее ребенок обеспечен ничуть не хуже других. В одной из таких попыток она как-то исхитрилась купить мне старенький немецкий "Гесс" и заставила своего очередного ухажёра, классно игравшего на аккордеоне и бывшего нарасхват на молдавских свадьбах, дать мне несколько уроков музыки. Но не прошло и недели с момента появления у меня аккордеона, как у Славки появился совсем новенький "Хохнер", а сам отпрыск был определен в лучшую музыкальную школу города. Какая уж тут могла быть дружба!
В конце концов, жизнь по-своему все расставила на свои места. Моя мать уехала жить почти в другой конец страны - в Баку. Славка, окончив военное училище, получил назначение... куда бы вы думали? Точно! В Баку! А позднее - в небольшой районный городок на юге Азербайджана, у самой иранской границы, где дослужился до майора. Все это время, пока Славка служил, Василий Семенович буквально мотался между домом и иранской границей, обеспечивая своему великовозрастному чаду досрочные звездочки и максимально возможные в этих условия различные блага.
"Верхнее" славкино начальство сидело в Баку, и Василию Семеновичу приходилось его часто посещать. Человеком Василий Семёнович никогда не был транжиристым и поэтому всегда останавливался у подруги своей жены, то есть у моей матери. И в городе, в котором служил Славка, Василий Семенович уже давно слыл своим человеком и мог достать и добиться чего угодно. Прямо, как у себя дома. Правда, при этом приходилось возить за тридевять земель огромные тяжелые чемоданы, но это - издержки, без этого никак не обойтись. Зато захотел лейтенант Славка жениться - пожалуйста! Папа тут же находит ему невесту, женит сына. Захотел капитан Славка заняться охотой - пожалуйста! Папа заводит крепкую дружбу со старшим егерем охотоводческого хозяйства. Когда Славке не хотелось идти по каким-либо причинам домой, он отсиживался и отлеживался в доме у старшего егеря. Бывало, что и днями. Захотелось майору Славке машину после того, как он прогнал "папину" жену и завел свою, собственную, - пожалуйста! Папа тут же прилетает, одобряет новый выбор сына и приобретает машину, игнорируя всякие самые страшные дефициты. Дефициты ведь, они - для людей попроще, в число которых Василий Семёнович давно не входит. Но Славка есть Славка: он, в очередной раз в усмерть пьяный, в дребезги разбивает папину машину и кое-что ещё и, как и "папину" жену, бросает машину прямо посреди дороги, а сам срочно переводится служить подальше от этого малоудобного места, буквально в другое государство, забыв согласовать свои действия по поводу аварии с местным ГАИ. И папаша вновь и вновь летает на иранскую границу, возит полные чемоданы и тем мирно улаживает все дела и с ГАИ, и с законом, и с машиной: вскоре через друга-егеря ему присылают записку, о том, что "машина - звэр, бэры давай". Это в переводе означало, что машина восстановлена, снята с местной регистрации ГАИ, все проблемы с которой улажены миром, переписана на имя Василия Семеновича и что можно перегонять ее к себе домой. Оставалось дело за малым: кто её перегонит в такую даль? Сам-то Василий Семенович в этом деле ни бум-бум: большую часть своей трудовой биографии он был связан с персональным шофером. Нанимать перегонщика накладно. А на что у Василия Семеновича его умная голова? Его "осеняет": да ведь у сына-то бакинской подруги его Тайки есть своя машина! И в летнее время он, по данным разведки, всегда навещает свою драгоценную мамашу! Вот это удача! За дружбу, хоть и не твою, как известно, надо платить. И вот я, не смея отказать в просьбе своей матери, оказался с Василием Семеновичем на самой иранской границе, чтобы задаром перегнать славкин восстановленный драндулет через пол-страны в тёплый бетонированный кооперативный гараж его полувенценосного папаши. Поезд останавливается, и мы выносим на перрон тяжёлую и громоздкую поклажу Василия Семеновича. Нас встречает черная южная ночь, немного расцвеченная пристанционными фонарями, густая липкая духота да шорох пробуждающихся цикад, уже готовых разом, до боли в ушах, затрещать со всех сторон, как только утренняя заря до положенного цвета окрасит недовольное сонное небо. Наш путь - к дому старшего егеря, где по данным Василия Семеновича нас ожидает "машина-звэр".
3.
Мы попали к егерю только утром, часов в семь: не хотели будить хозяев среди ночи и потому ждали рассвета на станции. Вместе с утром проснулись и местные таксисты, один из которых и доставил нас на тихую неширокую боковую улочку, почти как и все в этом городке, аккуратно заасфальтированную. Перед нами оказался крепкий, не дающий возможности заглянуть с улицы во двор каменный забор, обе половины которого соединяли будто только что вывезенные из заводского цеха массивные новые железные ворота, выкрашенные в густой стальной цвет, и с такой же массивной боковой дверцей. Все было наглухо закрыто и дышало спокойствием и нериступностью. Василий Семенович потоптался немного у ворот, не решаясь стучать, но потом толкнул вперед боковую дверцу, немного придержав ее за большое кольцо-ручку, чтобы ненароком не стукнула. Дверца легко, без скрипа, приоткрылась.
Слева от дверцы перпендикулярно забору я увидел стену какого-то строения, выходящего на середину небольшого заасфальтированного дворика, а прямо перед воротами, метрах в семи - боковую стену другого строения с маленьким окошком посередине стены: небольшая украинская хатка стояла к воротам боком, а широкой застекленной верандой выходила во дворик, в глубине которого наблюдалось еще одно строеньице: летняя кухня. Залаяла маленькая рыжая собачонка, не решавшаяся вылезать из стоявшей справа-сбоку от ворот основательной деревянной будки. Мы стояли у открытой дверцы и ждали, пока кто-нибудь выйдет на лай собачонки. И действительно: вскоре из летней кухни осторожно вышла в длинной ночной белой рубахе пожилая полная женщина и вопросительно посмотрела в нашу сторону. Но, узнав Василия Семеновича, молодо ойкнула и, явно смущаясь, быстро перебежала в стоящую напротив хатку, скрывшись за пологом, закрывавшем вместо двери, вход на веранду.
- А машины-то во дворе не видно, - сказал между тем Василий Семенович, заглядывая за боковую стену, которая находилась слева от нас, во двор. Но тут из хатки, на ходу запахивая халат, выскочила хозяйка.
- А мы ждем вашей телеграммы! Вот незадача вышла! - начала она виновато. - Мы бы подготовились, встретили, как люди, а так...
- Ничего, ничего! - замахал руками Василий Семенович. - Мы по-походному. Айдын прислал нам весточку, что машина готова и находится у вас. Можно забирать?
- Потому мы и ждем, когда вы дадите знать о своем приезде, - быстро ответила хозяйка, суетливо обметая рукой скамью и грубо сколоченный, покрытый выцветшей клеенкой стол, стоявшие посередине дворика. - Да вы присаживайтесь! Присаживайтесь! С дороги, поди, устали? Сейчас вот приготовлю, - она направилась к строеньицу, прилепленному к самому забору у ворот, - помоетесь в баньке и всю усталость, как рукой снимет!
- В баньке можно, - по-хозяйски оглядываясь, неторопливо произнес Василий Семенович. - Вы вот познакомьтесь: мой водитель, - он сделал акцент на слове "мой", жестом указал в мою сторону, будто показывая, какую он лошадь только что приобрел. - А где же Саша?
- Да я уже поняла, - пропустила мимо ушей последний вопрос хозяйка. Остановилась, вернулась к нам и протянула мне свою полную руку. - Галина Григорьевна.
- Борис, - ответил я, подавая ей свою руку. - Не стоит беспокоиться, Галина Григорьевна. Мы не очень устали. Не хлопочите.
- Надо, надо! - твердо перебил меня Василий Семенович. - Не слушайте его, Галина Григорьевна. С дороги всегда банька не помешает. Так где же Саша?
- Да он еще совсем затемно уехал. Дела у него какие-то. Не сказал. Обещался часов в десять приехать.
Мы сели на приготовленную чистую скамью, предварительно сложив под навесом, закрывавшем добрые две трети дворика, всю свою поклажу. - Здесь хозяин держит свою машину, - пояснил мне при этом Василий Семенович. Хозяйка же тем временем скрылась в баньке. Я не знал, куда себя девать и сидел, словно проглотил аршин, а Василий Семенович, сидя, принялся готовиться к собственному омовению: сбросил с себя пиджак, рубаху, туфли, носки. Принялся за майку.
- Вы что, догола решили тут разойтись? - не выдержал я.
- Да тут все свои, что ты такой щепетильный! - недовольно пробурчал он, но разоблачаться прекратил и с нетерпением уставился на дверь баньки. - Я и тебе советую, - продолжил он после некоторой паузы. - Вот поедем своим ходом, неизвестно еще, когда помыться придется.
- Хозяева-то не виноваты, что мы едем своим ходом, - начал задираться я.
- Ну, тебя, молодого, не переговоришь! - безнадежно махнул Василий Семенович рукой и принялся ждать.
Пока Василий Семенович мылся в баньке, хозяйка готовила завтрак, а я сидел посреди двора за пустым столом и молчал. Не нравилась мне эта затея с перегоном машины за три тысячи километров. Не нравилась и все тут! Тем более, что за такой короткий промежуток времени, что мне пришлось общаться с Василием Семеновичем, я про себя отметил, что он никогда не говорит всей правды. Он ее выдает небольшими порциями, строго дозируя их соответственно обстоятельствам. Ровно столько, сколько требуется для соблюдения его интересов. Так, дома он говорил, что машину надо будет перегонять из Баку. Машина, мол, недавно купленная. Мол, Славку, вот, перевели служить за границу. Не возьмет же он туда ее с собой. А бросать жалко: деньги все-таки. В Баку, по договоренности со мной, Василий Семенович должен был приехать через неделю после меня: "Отдохни, побудь с матерью, а потом соберемся потихоньку и поедем. У тебя, де, все-таки отпуск!" - говорил он. Но за день до своего прибытия он мне позвонил в Баку: - Срочно возьми два билета на поезд до N. Придется оттуда гнать машину. Из Баку не получается. - Мать недоуменно смотрела на меня:
- Он же меня уверял, что машина давно стоит здесь у знакомого! - я развел руками и пошел брать билеты до N. С билетами было не так-то просто: начало августа. Еле-еле достал в плацкартный вагон, выстояв почти целый день огромную очередь. Но по прибытии Василий Семенович был крайне недоволен: - Не верткий у вас сын, Екатерина Максимовна, - как бы шутя выговаривал он матери, - очень неверткий! Я бы не то что жесткие, мягкие бы места достал!
- Ничего, за своей машиной можно и в общем вагоне погонять, - отшутилась тогда мать. - Поздновато вы позвонили.
- Ну да ладно, что поделаешь, как-нибудь доедем. И не такое видывали, - покровительственно успокоил мать любитель мягких мест, - хотя... - И не договорив, он в явной досаде, махнул рукой. Я, было, открыл рот, чтобы поставить его на место, но мать как-то жалобно посмотрела на меня, и я, в свою очередь, повторил недавнее движение Василия Семеновича.
... Всю ночь мы маялись в лениво шедшем, словно верблюд по раскаленной пустыне, поезде. В вагоне была невыносимая теснота и еще более ужасная, духота. Не спалось. Видно настало соответствующее время, и Василий Семенович стал делиться со мной еще одной частью своей правды. Не видя его лица, я чувствовал, что он при этом старался заглянуть мне в глаза и найти там сочувствие. Оказывается, Славка, негодяй, машину-то разбил и бросил ее посреди дороги на месте аварии. Хорошо, нашлись добрые люди, подобрали машину да ему, отцу, тут же сообщили. Уж сколько он сюда возил-перевозил всего! Да этот шарабан и не стоит того! Если б не... Я слушал его заискивающий шепот и вместо сочувствия к этому пожилому и, без сомнения, давно уставшему человеку, глухая злость закипала во мне. И прежде всего на самого себя. Я действительно абсолютно порядочный лопух! На кой черт я должен потратить свой отпуск на ненужные мне мытарства с какой-то разбитой машиной! Неужели нельзя было все заранее выяснить, что, мол, да как, а только потом давать согласие на эту поездку? А теперь "назвался груздем - полезай в кузов!". Если и дальше так пойдет, то, похоже, завтра я узнаю, что и машины-то как таковой не существует, а нам придется в котомки сложить все, что от нее осталось и пешком драпать домой, потому что остатки славкиных удовольствий нельзя даже отправить малой скоростью! Поэтому, не найдя машины во дворе егеря и видя, что Василий Семенович даже не спросил у хозяйки, а где же она все-таки находится, я представил себе нечто подобное.
Все мои печали, наверно, были написаны у меня на лице, потому что хозяйка, выйдя из баньки, глянула на меня и вдруг заохала, заторопилась, приговаривая, что завтрак вот-вот поспеет, а уж потом надо сразу непременно поспать, "а то на вас прямо лица нет".
Хотя было еще совсем раннее утро, солнце уже нещадно палило и нам с хозяйкой пришлось перенести стол и скамью в другую часть дворика, туда, где была тень, поближе к летней кухне. Оказалось, справа от нее, за домом, хрюкали свиньи, тыкаясь своими влажными пятачками в загородку из металлической сетки, и оттуда шел такой запах, что никакого завтрака мне совсем не хотелось. Но делать было нечего и я, подавив в себе неприятные ощущения и не подавая вида, чтобы, не дай Бог, не обидеть хозяйку, чинно сидел за столом.
За воротами загудел мотоцикл. Во двор вошел среднего роста светловолосый парень лет тридцати. Сразу можно было определить, что это сын хозяйки: уж очень он был на нее похож. Только волосы у матери были темные и с большой проседью, а сын цветом волос пошел, видать, в отца. Парень широко открыл ворота и затем вкатился во двор на грозно урчащем ИЖе. Лихо объехал стоявший на его пути стол, за которым с кислым видом сидел я, и, едва не врезавшись в плетень из-за малости свободного пространства, резко затормозил, подняв за собой вихрь горячей пыли.
- Ну, шалапут! - обернулась, улыбаясь, мать. - Ты что, потише не можешь? Вкатываешься, как на гонках! Вон гляди, гости приехали. Василий Семенович. Будут машину перегонять. Познакомься.
Мы познакомились. Звали его Виктор. Работал он кладовщиком на железнодорожной станции. Только что из ночной. На шум мотора из дома вышла заспанная молодая женщина, его жена, и, словно две горошинки, выкатились двое ребятишек, толкающих друг друга и пытающихся каждый первым проскочить во двор к отцу. Эти веселые рыжеволосые пострелята, ничуть не удивившись, что у них во дворе сидит незнакомый дядя, только пробормотали "здрасьте" и продолжили свою возню, пока Виктор, умывавшийся тут же у рукомойника, устроенного на стенке летней кухни, не цыкнул на них. Ребятишки недовольно глянули на него и наперегонки побежали к бабушке, у которой вот-вот должен был быть готов завтрак. Вышла жена Виктора, неся в руке полотенце. Подала его Виктору.
- Сегодня тяжело было на смене, - фыркая от воды, говорил жене Виктор. - За двоих пришлось пахать: Колька не вышел чего-то, так мне досталось! Сейчас чуток отдохну да поеду снова. Груза много прибыло.
- Тебе что, не хватает своего, так ты и за других вкалывать должен? - Начала было возмущаться жена.
- А тебе-то что с этого?
- Пускай едет, - перебила свекровь, - пускай едет. Ты, Света, не мешай. Работа есть работа, - твердо заключила она. - Я вот сколько здесь живу, все время работала в заготконторе в бухгалтерии. Пока вот на пенсию не вышла, - обратилась ко мне хозяйка, ставя передо мной на стол тарелку, в которой до самых краев плавала картошка в коричневом соусе. От тарелки исходил густой терпкий пар, из-за которого во рту образовалось столько слюны, что неудобно было глотать: очень было бы заметно. - Так чего только не было, - продолжала хозяйка. - Бывало, ночью прибегут домой: "Ой, Галя, выручай! Опять привезли, надо срочно оформить, люди ждать не могут!". И бежишь. Надо. Работа есть работа, - закончила она после некоторой паузы, и мне показалось, что несмотря на то, что она вот уже несколько лет на пенсии, а прибеги вдруг сейчас кто-то из ее конторы, которой она отдала тридцать с лишним лет, крикни магическое "Ой, Галя, выручай!", и она, все побросав, тут же ринется на помощь.
Наконец, из бани вышел влажный Василий Семенович, до пояса обнаженный и с полотенцем через плечо. Виктор и Света сдержанно поздоровались, а ребятишки, не обращая на него никакого внимания, тащили каждый к себе малюсенького полосатого котенка. Тот отчаянно пищал, и чтобы его спасти, бабушке пришлось дать сорванцам по подзатыльнику. Во дворе немного поутихло, но не надолго. Теперь в историю с котенком была втянута собака, спокойно дремавшая до этого в своей будке.
Все, кроме хозяйки и детей, сели за стол. Перед каждым была поставлена такая же порция еды, что и передо мной. Посреди стола хозяйка водрузила огромный полосатый арбуз. Василий Семенович вдруг встал из-за стола и направился к тому месту, где лежало все, что мы с собой привезли. На спине его я увидел огромный белый серповидный рубчатый шрам, окаймляющий правую лопатку. Жестокая метка войны. Чуть пониже этого места заплывшей небольшой воронкой маячила другая отметина. "Досталось ему, бедному", - невольно подумалось мне, и я почему-то отчетливо сразу увидел залитый жарким солнцем двор, себя, лежашего в его горячей пыли, раздираемого нестерпимой болью, окровавленного Сашку с ведром сухой известки в руке и сучащего ногами в предсмертной агонии немца...
- За встречу всегда полагается выпить, - Василий Семенович усаживался за стол с бутылкой коньяка в руке. - Возражения принимаются только от больных и детей. - Он оглядел, улыбаясь, присутствующих.
- Я сейчас, я сейчас! - скрылась в летней кухне хозяйка и появилась из нее, держа в руках небольшие, стограммовые стаканчики. - Вот, пожалуйста, Василий Семенович, наполняйте! - и она снова заторопилась к стоявшему возле летней кухни столику доделывать что-то для завтрака.
- Я не стану! - произнес решительно я. - Во-первых, с чего это в такую рань пить? А во-вторых, мне, наверно, сегодня придется ездить? - полувопросительно закончил я.
- Да, да! Тебе, Борис, нельзя! Ты прав! Кстати, - громко обратился к хозяйке Василий Семенович, - а где же наша машина? - Хозяйка немного замялась:
- Да... она все время тут стояла. Вроде готовая. А потом старик что-там заметил и заставил Айдына переделать. Ах, да! Вспомнила! - она хлопнула себя ладонью по лбу: - У нас здесь летом дождей сроду не бывает. А тут, как на грех, только-только Айдын покрасил машину, а дождичек-то возьми да и случись! Вот пятна от капель и остались кое-где на краске. А старик это увидал, пока машина тут стояла, да и отогнал ее опять к Айдыну: пусть, де, перекрасит.
- Ну а так она бегает? - задал вопрос Василий Семенович.
- Да вроде того. Гудит только посильнее нашей. Да старик мой говорит, что это у ней от какого-то охлаждения. Может и так, я почем знаю, - хозяйка села с краешку за стол и поставила перед собой тарелку с такой же, как и у всех, едой.
- Из-за воздушного охлаждения, - поправил мать Виктор. - У нашей - жидкостное.
- Нехай будет жидкостное, мне все равно, - махнула рукой хозяйка и вопросила: - А чего же это мы сидим, граждане? - За столом сразу все засуетились, готовясь участвовать в трапезе. Василий Семенович принялся разливать коньяк. Света было накрыла рукой стаканчик Виктора, мол, ему еще сейчас на работу идти, но тот твердо снял ее руку со стакана и поправил:
- У нас - жара. Через десять минут все пСтом выйдет.
В это время за воротами взвизгнули тормоза и, рыкнув, замолк, будто на чем-то запнулся, двигатель.
- А вот и наш дед приехал! - объявила хозяйка. Тут же все дружно поставили на стол поднятые, было налитые до самых краев, стаканчики, а сама хозяйка принялась, кряхтя, вылезать из-за стола. Дверца ворот открылась, и во двор вошел небольшого роста коренастый крепыш, скорее белобрысый, чем седой, подстриженный под лихой бокс с короткой мальчишеской челкой. Только когда он, завидев Василия Семеновича и меня, заулыбался, я разглядел на конопатом, не поддающемся даже местному солнцу лице, глубокие борозды, оставленные на нем всем пережитым, испытанным, выстраданным. Почти медная, вся в крупных коричневых веснушках шея была похожа на растрескавшуюся от палящего солнца землю. Широкая добрая улыбка обнаруживала отсутствие нескольких передних зубов, что, как было видно, нисколько не смущало ее обладателя.
- А мы все телеграмму от вас ждем, - проговорил он, подходя к столу и протягивая руку Василию Семеновичу. - Все ждем, когда пойдем встречать. Как же вы так? Мы бы толком подготовились. Все, как положено, было бы.
- Да что ты, Саша, - перебил его Василий Семенович, - ни к чему эти встречи! Зачем людей зря беспокоить! "Вот старый лицемер!", - подумал я, сразу вспомнив, как в поезде Василий Семенович мне "открывался": хотел, мол, было дать телеграмму, да раздумал. Нагрянем, мол, неожиданно. Проверим, не ездит ли кто на отремонтированной машине по своим делам. И все такое...
- Зачем зря беспокоить людей! - тряся руку хозяина, громче положенного говорил Василий Семенович. Затем, словно очнувшись, показал на меня: - Познакомься: мой водитель. - Хозяин пристально посмотрел мне в глаза и подал руку:
- Саша.
- Борис, - ответил я и мне стало как-то неудобно от этого "Cаша". Рука у него оказалась, как и он сам: крепкая и широкая, а глаза - цепкие, пристальные, светлонебесного цвета. Чтобы как-то скрыть свое смущение, которое, как мне показалось, не осталось незамеченным хозяином, я не нашел ничего лучшего, как сказать: - Ну и жара же у вас тут!
- Это еще совсем по-божески, - приятно улыбнувшись, ответил он и, снимая с себя на ходу через голову по-мальчишески рубашку вместе с майкой, направился к рукомойнику.
4.
Часов в одиннадцать, как раз в самое пекло, когда ни к чему металлическому и прикасаться-то было нельзя - запросто схлопочешь сильный ожог, как от домашней сковородки, - хозяин на своем видавшем виды белом "Москвичонке" лихо прокатил нас по малолюдному городку, распугав в двух местах что-то клевавших у дороги белых кур и вызвав недоуменный взгляд у серого симпатичного ослика, стоявшего в глубоком раздумье почти посередине проезжей части совсем недалеко от единственного в этом городке светофора, водруженного здесь, видимо, больше для солидности. Ознакомительная поездка завершилась тем , что мы свернули в какую-то боковую разбитую узкую, с глубокой колеей улочку, и после долгого петляния уперлись, наконец, бампером в крепкие железные ворота. Наш водитель, выйдя из машины, уверенно раскрыл ворота и вкатил нас в большой двор, напоминавший скорее небольшую стройку, чем жилое место. Я побыстрее выбрался из "Москвича", ощущая, что вот-вот на мне все заполыхает, Василий Семенович, кряхтя, последовал моему примеру.
Хозяева двора действительно строились: крепкий, современного проекта дом стоял уже под крышей, но для жилья была наспех приспособлена всего одна комната. В остальных пока не было ни окон, ни дверей, ни полов. Хозяин дома встретил нас без всякого удивления. О чем-то говоря по-своему с нашим "Сашей", он пошел с ним в дальний угол двора, скрытый от нас невысоким глинобитным строением с широкими полуоткрытыми створками деревянных ворот, напоминавшим не то гараж, не то мастерскую.
- Где это мы? - спросил я у Василия Семеновича, молча присевшего в тень у забора на полуразрушенный саман.
- Это Айдын, который мне делал машину, - неохотно ответил Василий Семенович.
- И где же она? - я желал поскорее познакомиться с тем, на чем мне предстояло добираться домой не один день.
- Здесь, у него. - Василий Семенович отводил в сторону глаза и это мне не очень нравилось. Я замолчал и стал ждать. Молчал и Василий Семенович.
Прождали мы недолго. Это обстоятельство, быть может, и предохранило меня от солнечного удара: пекло стояло такое, что казалось, под ногами - чудовищная духовка, а о солнце я уже не говорю. Во дворе перед домом, кроме следов незаконченного строительства, в углу еще ютилась "времянка", кое-как из чего попало слепленная уборная, добавлявшая в застоявшийся, обжигающий лицо воздух свой специфический "парфюм", который никогда ни с чем не перепутаешь. "Саша" с Айдыном появились из-за строения оба недовольные друг другом, обмениваясь на ходу короткими репликами и резко жестикулируя руками. Было видно, что Василий Семенович забеспокоился. Он встал и пошел им навстречу, но потом остановился, с неприкрытой тревогой в глазах ожидая, когда те двое подойдут. Уже приблизившись к нам, оба продолжали о чем-то страстно спорить, часто при этом выбрасывая в пышущее жаром пространство не уступающее ему по накалу слово "йох". Вдруг оба неожиданно стихли и хмуро посмотрели на нас с Василием Семеновичем, как бы приходя в себя.
- Ну, как, урус, нэ сгарэл ишшо? - недобро глядя на меня, спросил Айдын. Это был довольно молодой с неделю небритый парень с большими нахальными черными глазами и крепкими рабочими руками. - Зачем, ара, так далэко эздишь? Нэ баишься?
- Нэт, - тон ему ответил я, - нэ баюсь да.
- В общем, - вмешался в наш интернациональный диалог "Саша", обращаясь к Василию Семеновичу, - придется подождать до вечера: машина не готова. Надо кое-что доделать по ходовой части. Но придется ему, - он повел глазами в стороу Айдына - кое-что доплатить. И вечером он сам пригонит машину ко мне. - Было видно, что это сообщение не вызвало особо большого энтузиазма у Василия Семеновича, но деваться было некуда, и он обреченно мотнул в знак согласия головой, от которой, по-моему, уже начинал куриться легкий дымок. Не солоно хлебавши, мы отбыли восвояси. Но "Саша" решил хоть немного подсластить пилюлю и молча вместо дома привез нас на берег Аракса.
- Скупнитесь, - буркнул он виновато, остановив машину у самой кромки покрытого зеленой травой берега и шустро выбираясь из своей раскаленной духовки. Мы стали молча вылезать вслед.
Оказавшись на берегу, я с удивлением смотрел на столь известную мне и казавшуюся такой загадочной пограничную реку Аракс, героиню читанных-перечитанных мною шпионских рассказов. Это была невзрачная неширокая речушка с глиняными пологими берегами и мутной водой, по обоим берегам которой не было видно ничего пограничного. В свое время я три года пробегал (бег - основной вид физподготовки в погранвойсках) по границе и не понаслышке знал, что тут должно было бы быть. Но ничто не напоминало мне, что это государственная граница, что там, на другом берегу, в нескольких десятках метров отсюда - другая страна: Иран. Мирно паслось несколько осыпанных репьями коз, да один единственный черный ишак бесстрастно глядел на ту сторону, лениво обмахиваясь грязным хвостом от наседавших мух. Купаться мы не стали: уж больно грязная вода. Молча побродили по зеленой травке - диковинке в это время года в здешних местах: в мае тут уже все начисто выгорает и становится желтокоричневым. Потом каждый, думая о своем, полез в горячий "Москвичок".
К вечеру Айдын прикатил на белом ..."новом Запорожце"! Вот это автомобиль! Когда Василий Семенович мне рассказывал о купленном им лично, а разбитом его Славкой автомобиле, было понятно без перевода, что это была если не иномарка, то, по крайней мере, почти черная правительственная "Волга". А тут этот "горбатый", который иначе никто никогда и не называл, отчего я могу смело дальше писать его марку без кавычек, ибо она - имя нарицательное! Никакие рихтовка с покраской не могли скрыть недавнее печальное прошлое этого неудачника от рождения. Это прошлое выпирало отовсюду. Однако же Василий Семенович сразу повеселел, обнял за плечи подошедшего к нему улыбающегося Айдына и повел того в комнату, куда нас на время пристроили хозяева. "Расплатиться и угостить порядочным коньячком пошел, хотя впору бы зарыдать", - подумал я. "Похоже знал, в каком виде получит славкину машину, а мне прямо противоположное заливал! Ну и гусь!".
Какая-то подспудная тревога начала просыпаться во мне. Как я поеду по Кавказу и через полстраны на этом драндулете? Да ему же даже по внешнему виду дальше утильсырья и соваться грех! Пока я сидел в теньке и думал свою горькую думу, Василий Семенович с Айдыном вышли из комнаты во дворик в хорошем "навеселе". Казалось, что вот-вот кто-либо из них затянет во все горло свою родную, задушевную. Но этого не случилось: Айдын на прощанье обнял Василия Семеновича и что-то крикнул на своем гортанном языке хозяйке, стоявшей тут же, во дворике, и собиравшейся поливать его водой. Потом исчез, громко хлопнув тяжелой дверцей железных ворот. Василий Семенович, не обращая на него внимания, тут же подошел к "Запорожцу" и принялся любовно поглаживать его своей нетвердой рукой по скверно окрашенной бугристой крыше...
Утром ни свет ни заря мы были уже на ногах. Все что надо было, уложили в "Запорожец", наскоро позавтракали: хозяйка и слышать ничего не хотела, пока мы не съели по приличному куску жареной свинины и по два крупных яркокрасных свежих, с грядки, помидора. Попрощались. Хозяина не было дома: ушел еще до нашего подъема. Я сел за руль, завел мотор и стал задним ходом выезжать на улицу через предварительно открытые хозяйкой ворота. Чтобы преодолеть небольшой подъем от дворика до проходившего в двух метрах от ворот шоссе, "Запорожец" так взревел, что, похоже, поднял на ноги в эту рань половину сонного городка. По крайней мере, сквозь шум двигателя я услышал, как вдруг дурно замычала соседская корова...
- Поедем на Кюрдамир, - спокойно сказал мне Василий Семенович, когда мы начали выезжать из городка, и повернулся, как ни в чем не бывало, смотреть в окно. Он желал любоваться местным пейзажем. Я от неожиданности нажал на тормоза, и машина тут же заглохла.
- В кк-ак-ой Кюрдамир? - оторопело спросил я. - Мы же договорились ехать через Баку?
- Нам надо ехать в Кюрдамир, - Василий Семенович, как обычно, отводил глаза в сторону, - там у меня есть знакомые на станции технического обслуживания.
- Ну и что? - Машина стояла, но асфальт в это ранне утро уже начинал плавиться и имелся риск прилипнуть к нему колесами навечно. - Причем тут СТО? Вы же сказали, что все в порядке и даже угощали коньяком этого абрека!
- Да, но кое-что надо бы еще подправить. Дорога долгая... - Василий Семенович, как всегда, темнил.
- Вы же говорили, что в машинах ничего не понимаете.
- Не понимаю, - согласился Василий Семенович, - но подстраховаться не помешает.
- А дальше? - меня обуревала злость, - дальше куда?
- А дальше, - как ни в чем не бывало отвечал Василий Семенович, - дальше - через Кавказский хребет по Военно-Грузинской дороге к Черному морю. Поваляемся там на песочке, - при этом он мечтательно забросил руки за голову и сладко потянулся. - Там - девочки. У меня деньжата есть. Ты ведь - в отпуске... - "Вот козел! - во мне все кипело. - я так и думал, что он что-нибудь отмочит, но такое... Девочки ему... Скотина!" - я чуть было не выдал все это вслух. Договаривались ведь ехать тихо-мирно через Баку-Дагестан-Ростов. Моря ему захотелось! На этом-то горбыле! - Уже вслух закричал я.
- Ничего, ничего! Вот заедем на СТО в Кюрдамир. Потом у меня в самом Кюрдамире есть еще кое-какие дела. Денек там побудем и - вперед! - Василий Семенович не отступал, и я понял, что эта акция спланирована не сейчас, не спонтанно, и что я вляпался, как говорят, по самую макушку. Отступать было некуда: бросать все посреди дороги, добираться до станции, в такой жаре ждать целые сутки поезда, потом сколько в нем еще трястись до Баку... а там в это время билета на самолет ни за какие коврижки не достать. Поэтому могу опоздать на работу. И насколько - еще не известно. Все рассчитал Василий Семенович. Стратег. Я с яростью врубил сразу вторую и что есть силы нажал на газ. Наш несчастный инвалид от такого безобразия по-дурному взревел, но не заглох, и, еле-еле оторвав от липкого асфальта свои рахитичные колесики, натужно побежал к таинственному городу под названием Кюрдамир.
Да не тут-то было. По мере того, как мы все дальше и дальше отдалялись от городка с его старшим егерем, у меня, а точнее, у этого несчастного, все больше и больше вело руль вправо. Я попробовал поделиться этой новостью с Василием Семеновичем. Он отреагировал преступно беззаботно:
- Вот доедем до Кюрдамира, там и поправим. - И продолжал наслаждаться ранним летним утром, и, как мне думалось, предвкушением удовольствий на черноморском побережье. "Дался ему этот Кюрдамир", - уже тревожился я, поглядывая на километровые столбы. Отъехали километров двадцать, а до благословенного Кюрдамира оставалось еще несколько раз по столько. Руль попрежнему тянуло вправо. И с каждой минутой все сильнее и сильнее. Я решил остановиться и посмотреть, хотя бы приблизительно, в чем там дело. Дело в том, что у нашего рысака в отличие от других, менее амбициозных автомобилей, имелась, мягко выражаясь, одна существенная конструктивная особенность: у нашего все брюхо было закрыто металлическим щитом. Вполне можно предположить, что кудрявая конструкторская мысль прочила этому чудовищу преодоление водных и огневых преград, а может предполагалось, что он должен будет выдерживать взрывы крупных иностранных фугасов, с помощью которых всякие там наемники попытаются разрушить нерушимую дружбу украинского и русского братских народов. Вполне возможно. И не зря поэтому это чудо техники получило у автолюбителей почетную кличку "Броневик". Многие уточняющие эпитеты я здесь из личной скромности опускаю. Так что в нашем с Василием Семеновичем интересном случае подобраться к деталям снизу, имея под собой уже начинающий пузыриться от жары асфальт, становилось делом не совсем простым. Но оказалось, что и подбираться-то никуда и не надо. Пригнувшись, я сразу увидел, что правое переднее колесо сильно косило. Не скажу, правда, что как Савелий Крамаров, но что-то вроде этого. И терлось, обо что ему не полагалось. Уже почти из-под шины стала показываться камера.
- Все! - сказал я почти радостно Василию Семеновичу, - дальше не поедем. Разобьемся. А на таком асфальте заниматься ремонтом вам никто не станет. Поворачиваем назад. Пусть ваш абрек приводит машину в порядок, как полагается. Хорошо, если назад-то доедем без приключений.
Но тут Василий Семенович проявил вдруг недюжинную настойчивость и даже грубость. Несмотря ни на что, он требовал доехать до вожделенного Кюрдамира хоть на одном колесе, что, де, у него там может сорваться важное дело, что... Он требовал и угрожал, умолял и негодовал. Плевал, мол, он на всякие страхи. Потихоньку-помаленьку доберемся. Может, по дороге попадется какая-нибудь автомастерская, может... В общем, надо ехать!
Но, как оказалось, судьба наша ждала нас как раз не в Кюрдамире. Уже махнув на все рукою, я забрался в нашу "Антилопу-Гну" и принялся включать первую скорость, уже обрадованный Василий Семенович, довольный, заглядывал мне в самые глаза... Раз! Раз!... Еще раз!... Скорость не включается. Жду немного. Повторяю процедуру... Никакого результата! Немного напрягшись, пытаюсь включить вторую. То же самое! То-же-са-мо-е! На ровном месте! Останавливались нормально, выключил двигатель, перевел на нейтральную, поставил на "ручник". Никаких намеков не было, что случится такое! Высшие силы! Значит, не судьба! Что же делать? Начинаю из простого любопытства включать сразу третью. Раз... Раз... Не идет. Раз... Включилась! Снова все - на нейтральную и снова начинаю с первой. Тот же результат! Включается только третья передача! Снова выключаю двигатель, даю "звэру" отдохнуть и повторяю попытку... Нет! Все равно включается только третья скорость. Гляжу на Василия Семеновича, молча наблюдающего за моими стараниями. По глазам вижу, что он, наконец, понял, что на этом "звэре" мы можем добраться разве что только до ближайшей канавы, но не до столь желанного ему Кюрдамира.
- Все, - тяжело выдавливает из себя Василий Семенович, - поехали назад.
- А как? - спрашиваю я его. - Мы с третьей скорости с места не сдвинемся: двигатель сразу заглохнет.
- Не знаю, - кисло отвечает Василий Семенович, - надо ехать назад.
- Легко сказать! Ладно, - говорю я, - надо попробовать как-то возвратиться, не то через некоторое время от нас на этом месте и так останется одно воспоминание: просто испаримся среди этой пустыни под таким солнцем. Поехали бы в сторону Баку, так там хоть лес мог бы спасти. А тут одна голь. Все вокруг выжжено да асфальт пузырится. Ладно, попробую. Куда ж деваться!
Врубаю третью и что есть силы жму на газ, чтобы "броневик" не успел заглохнуть. Сработало! Несчастный тут же бешено рванулся в сторону Кюрдамира. Но нам уже туда не надо. Нам нужно в городок, откуда так неудачно сегодня началось наше авантюрное путешествие. А как ты возвратишься в этот городок даже с уже совсем сникшим Василием Семеновичем, когда ты бешено прешь вперед на третьей скорости? Как ты развернешься на узкой дороге, хотя и совсем пустынной в это раннее время? А случись что, так некому и помочь! Пустыня! Кто же ездит в этот дурацкий Кюрдамир, если за все километры наших утренних мучений мы не встретили на своем пути ничего движущегося, кроме встречного горячего воздуха? Может, доехать до какой-нибудь развилки или до места, где дорога станет пошире и там попробовать развернуться? От этих дум я уже перестал чувствовать, что руль тянет вправо. Не до него, родимого! Как бы развернуться да не перевернуться! А наш красавец ревет, что есть мочи, и несется в сторону Кюрдамира!
Кричу Василию Семеновичу, что, дескать, он тут, наверное, не впервые, что, мол, должен тогда знать эту дорогу. Сколько еще нам мчаться до ближайшей развилки или чего-нибудь в таком роде? Но совсем сникший Василий Семенович не знает. По нему заметно, что ему уже не хочется к шоколадным девочкам на черноморский пляж. А правое переднее все-таки трется и трется, и руль все сильнее тянет вправо и вправо. Удерживать его становится тяжело...
Наконец, завидев впереди небольшое расширение дороги, решаюсь сделать разворот, иначе куда нас занесет этот шедевр технической мысли настырных земляков недавно мирно усопшего Леонида Ильича, один Бог знает. На всякий случай приготовился затормозить...
Поехали назад! Получилось! Наше чудо даже не попыталось перевернуться на такой скорости! Вписались точь в точь в полотно дороги! Все!
Василий Семенович сразу заметно повеселел, заерзал, о чем-то заговорил. Но я его не слушал из-за всех наших треволнений, а думал лишь о том, как бы побыстрей добраться до нашего городка. Отмахали-то мы вперед километров двадцать пять! Чтобы быстрей ехать, решил попробовать включить четвертую. Рисковал, так как наш автогерой мог не включить четвертую, но и уже не дать вернуться на третью. От этого дикобраза можно было ожидать всего. Но четвертая спокойно включилась ("Благодарю Вас, Броня!") и наш мучитель побежал к дому значительно резвее.
Но тут, как на грех, навстречу начал попадаться транспорт. Разъезжались мы с ним на нашей четвертой безо всяких проблем. Но вот впереди показался трактор с прицепом, который уже ехал с нами в одну сторону. Ехал он, сами понимаете, как мог, и поэтому очень быстро надвигался на нас. Обгонять его нельзя было, так как при этом надо было выезжать на встречную полосу движения, но как раз именно в этот момент по встречной несся какой-то джигит. Тут я попытался как-то, притормозить, перейдя на третью скорость, но та, собака, никак не включалась! Не включалась и все! Как ни пытался я ее врубить - глухо! Не зря я опасался, что, пытаясь перейти с третьей на четвертую, могу получить очередной сюрприз от нашего Конька-горбунка. Так и случилось! Трактор неумолимо приближался. Но Бог нас хранил в эти минуты: джигит по встречной молнией пронесся мимо нас и освободил полосу: мы благополучно обогнали тарахтящий своими железяками трактор.
И вот впереди показался городок. Но как же по нему мчаться на такой скорости? Там не то, что трактор с прицепом, но и корову, а еще хуже - упрямца ишака встретишь. Их на скорости уже не объехать. Я старался не думать об этом, хотя... Тормоза ведь пока работают, поэтому в случае чего, заторможу, а если чудо заглохнет, то с четвертой его уже никогда не сдвинуть с места и придется пешком добираться да спасительного домика старшего егеря, который уже там что-нибудь придумает. В общем, как-нибудь там на месте выкрутимся. Оставался нерешенным вопрос: пусть мы как-то проскочим в городке. Но чтобы попасть к дому егеря, надо поворачивать направо на единственном регулируемом (со светофором) перекрестке. Надо же так не везти! В этот день просто все лепилось одно к одному! Будь, что будет! В конце концов и там можно заглушить нашего дьявола!
Все же судьба продолжала к нам благоволить, хотя кто-то свыше в "лице" нашего конька продолжал нам ставить палки в колеса: чудом на бешеной скорости мы проскочили полгородка, успешно обгоняя все встречавшееся на нашем пути, а когда подъезжали к злополучному перекрестку со светофором, загорелся зеленый. Слава Тебе, Господи! Чуть притормозив, с визгом повернули мы направо и, промчавшись еще метров триста, обессиленно остановились у знакомых ворот...
Едва мы вошли во дворик, оставив нашего красавца на улице, как все домашние, как горох, высыпали нам навстречу. Оказалось, что хозяин уже был дома и, несмотря на еще раннее утро, находился уже в приличном подпитии. Сразу вспомнилось, как вчера он завел меня в свою комнату и демонстрировал "царские подарки", врученные ему, простому егерю из приграничного захолустья, великими советскими руководителями и военначальниками, которых он лично обслуживал на "царских охотах". После удачной охоты - а неудачной быть не полагалось, иначе бы егеришке не сносить своей головы - после удачной охоты при костерке и за шашлычками со знаменитыми коньяками даривали они ему, великие, разнообразные охотничьи ножи - настоящие произведения искусства с дорогими инкрустированными рукоятками, изготовляемыми, как и все для этого круга людей, по спецзаказам и, похоже, совсе не за их личный счет. При такой работе да с утра не быть в подпитии - большая проблема.
- Что случилось, Василий Семенович? - тараща на нас свои, уже непокорные ему самому глаза, просипел хозяин. - Забыли чего? - в глазах его жены, снохи, сына и малышей я увидел тот же вопрос. Наступила немая сцена. Я не стал объясняться, давая возможность Василию Семеновичу самому все рассказать. Тот, видимо, еще окончательно не пришел, как следует, в себя и молчал. Но через мгновение довольно импульсивно начал:
- Знаешь, Саша... - "Ну все! - подумал я, - сейчас он меня отделает за мое шоферство, за то, что сорвал ему, как я понял, какую-то важную сделку в Кюрдамире..."
- Знаешь, Саша! - громко повторил Василий Семенович, - а Борька-то - настоящий герой!
Меня резануло его фамильярное "Борька": сколько лет мы были знакомы, он всегда разговаривал со мной с известной долей почтительности, хотя и на "ты". "Разволновался, видно, совсем, старый, - подумал я в его оправдание".
- Борька? - хозяин, как мне показалось, внимательно посмотрел на меня протрезвевшими цепкими глазами, будто впервые меня увидел. "Вконец забыл спьяну, как меня зовут! Ладно, бывает!", - решил я.
- Борька - настоящий герой! - начал опять с большим пафосом Василий Семенович. - Я думал: все! Разобьемся насмерть на этом драндулете, но Борька...
- Да ладно вам, Василий Семенович, вгонять меня в краску! - я взял его за рукав, - ничего особенного-то и не было. Всегда можно было затормозить. Тормоза-то ведь работали! Перестаньте! - Но Василий Семенович, похоже, очень долго был сжат в болезненный комок, сжат, как стальная пружина. Натерпелся, бедняга, за недолгое наше путешествие на горбатом. Хотя вида не подавал. Но сейчас раскручивался и раскручивался и удержать его было невозможно.
- А наш папка тоже герой! - вдруг неожиданно ревниво перебила Василия Семеновича хозяйка. - Он в войну один немца убил.
- А где вы воевали? На каком фронте? - обратился я к хозяину больше для того, чтобы поддержать хозяйку и тем самым застопорить хвалебную тираду Василия Семеновича в мою честь.
- На каком там фронте! - хозяйка досадливо поморщилась. - Пацаном он еще был. В оккупации.
- Так вы не местные? - удивился я. - По-азербайджански, я вижу, у вас все говорят.
- Конечно, не местные. После войны, как поженились, приехали сюда на заработки. У нас там все разбито было. Вот и живем здесь, - как-то виновато заключила хозяйка и развела руками. Между тем хозяин почему-то глядел и глядел на меня, не мигая, и я начал испытывать какое-то смутное беспокойство.
- А откуда, если не секрет, вы приехали? - продолжил я спрашивать, теперь уже желая как-то уйти от неприятного пристального взгляда хозяина.
- Да какой же тут секрет! Из предгорной Кубани. Там такие леса! Саша там на егеря и выучился.
- А вв-ы, случайно, не из... - Я интуитивно назвал поселок, в котором провел свое детство у бабушки. - Там у нас в конце войны один парень вернулся с фронта, зашел в гости к своей бывшей учительнице, посидели, выпили, вспомнили довоенные годы, а потом он ее решил ограбить: захотелось еще выпить, а денег не было. А попросить, как потом признался, постеснялся. Когда собрался уходить, она пошла вперед: дверь ему открыть, а он выстрелил ей в затылок! Забрал, что нашел: из ценных вещей - один единственный полушубок. И тут же подался в ближайший ларек обменивать на водку. Там его и застукали.
- Точно! - вскричала хозяйка, - точно! А когда соседка учительницы, услышав выстрелы, побежала узнать, в чем дело, он и ее застрелил, паразит. Прямо на ступеньках крыльца...
... Я вдруг вспомнил длинноногого немца и хрипло визжащую упирающуюся свинью, и глянул на хозяина: Саша. Герой. Убил немца...
- Э-э-э...
- Борька! Братка! Качан тебе в лоб! Братка! - хозяин прыжком кинулся ко мне, и я оказался в его крепких объятиях. - Братка! - плакал мне в ухо сильно постаревший Сашка, - братка мой...
Кишинев-Баку-Кишинев, 1983-2001 г.г.
Он собрался умирать
1.
Он собрался умирать. На дворе был конец мая и поздний душный вечер только способствовал его желанию. Он рано лег в постель, но его общее состояние становилось все хуже и хуже. Сегодня он еле-еле добрался с работы домой и почти на карачках влез на свой девятый этаж: лифт уже более года был отключен за неуплату всего несколькими квартирами и как раз теми, кто проживал на нижних этажах. За тринадцать лет эксплуатации их дом, в который после его сдачи в эксплуатацию была заселена сплошь одна беднота из бывшей на месте застройки городской окраинной магалы, их панельный дом за эти годы облупился и облез, как старое неухоженное животное, как и его нынешние в конец обнищавшие обитатели, и поэтому очередную неприятность принимал смиренно и обыденно. Похоже, отключение лифта случилось навсегда, так как никто из неплательщиков и не собирался погашать долги, а местным властям было не до чужих разборок. Они и со своими-то не успевали справляться: одни выборы накатывали на другие, верхняя "крыша" менялась непредсказуемо и балансировать, чтобы как-то удержаться на плаву, становилось все труднее и труднее. Какой там лифт в каком-то зашарпаном доме! Еще сегодня утром он, готовясь идти на работу, ничего тревожного в себе не заметил: побаливала, как и много раз до этого, голова и чувствовалось небольшое недомогание. Он отнес это на счет большого переутомления, которое испытывал на работе. Их предприятие с потрохами купила одна крупная иностранная фирма и теперь всем сотрудникам пришлось сразу забыть и про восьмичасовой рабочий день, и про чуть ли не еженедельные дни рождения, которые пышно отмечались в рабочее время, и про многое другое: теперь он уходил на работу в семь утра, а приходил в половине девятого вечера. Каждый день. Каждую субботу. И не успевал восстановиться за теперь казавшееся столь коротеньким, воскресенье. А впереди совсем не наблюдалось никакого продыха. Но он не роптал, а благодарил Бога за то, что не выгнали на улицу, несмотря на его уже двухлетний пенсионный стаж.
При старом руководстве ему приходилось каждые два месяца после выхода на пенсию писать слезные просьбы своему начальству о продлении с ним контракта, чтобы не умереть потом с голода вместе со своей бабушкой, ибо их общая пенсия в сумме составляла аж двадцать долларов в пересчете на твердую иностранную валюту, в то время как только за коммунальные услуги надо было ежемесячно платить пятьдесят. Потом, когда отправившись на работу, он осторожно спустился со своего птичника во двор, вышел на его залитый ранним веселым солнцем простор и направился было к троллейбусной остановке, его вдруг так зашатало и затошнило, что он упал на одно колено и судорожно ухватился за стоявшее рядом тоненькое чахлое деревце, едва не сломав его. Тяжелая зеленая тошнота подступала к самому горлу и в глазах появилась какая-то кружевная темнота: темная-темная сетка с яркими светлыми неровными дырочками, через которую все поплыло, поплыло. Держась обеими руками за спасительный стволик, он попытался сразу потихоньку приподняться с колена, зажмурив при этом глаза. Это ему удалось только со второй попытки. Но встав на обе ноги, он все еще боялся отпустить деревце: голова кружилась и тошнота не отступала. Он было подумал немного постоять, пока его не отпустит, да вернуться домой, но отверг эту мысль: надо идти вперед, на работу. Во-первых, он уже не сможет подняться пешком на свой девятый этаж в таком состоянии и где-нибудь на четверти пути его хватит Кондратий. Во-вторых, даже если бы он каким-то чудом и добрался бы до постели, то это тоже ничем хорошим ему не светило: он был в доме один-одинешенек. Уже почти месяц, как жена была в отъезде. В российском северном районном захолустье их дочь, сбежавшая туда с маленьким ребенком и мужем от тутошней безработицы, наступаюшего голода и под местные крикливые лозунги "Чемодан-вокзал-Россия", их дочь собралась подарить родителям вторую внучку. Поэтому, обдумав всю ситуацию, он решил, что как-нибудь пойдет на работу. Постояв некоторое время в позе раннего утреннего пьяного и немного при этом оклемавшись, он нетвердой походкой поплелся к выходу со двора...
На работе, сидя за компьютером, он кое-как протянул время, принимая в течение дня разные таблетки, которые постоянно носил последние лет десять с собой, но в половине пятого почувствовал, что дело принимает, несмотря ни на какие лекарства, дурной оборот, кое-как отпросился у начальства, еле-еде на двух маршрутках добрался до своего дома и буквально прополз все девять этажей по лесницам, цепляясь за их грязные, местами совершенно липкие, перила. Оказавшись, наконец, в квартире, рухнул, не разоблачаясь, на аккуратно заправленную утром постель. Немного полежал, отдышался, потом снял с себя верхнюю одежду, шатаясь подошел к письменному столу, выдвинул второй сверху ящик, в котором хранились семейные медикаменты, и достал термометр. Сунул его под влажную подмышку и тихонько опустился на постель. Прилег. На часах было полшестого. Минут через пять вынул термометр и попытался разглядеть, что там набежало. Но без очков это никак не удавалось Отложив термометр, кряхтя, встал с постели, и, держась по пути за все, что попадалось под руку, поплелся в другую комнату за очками. Таким же способом вернулся с очками назад, взял с постели в дрожащие руки термометр, надел очки... Термометр показывал 38.7. Решил проделать другую процедуру: измерить давление. Но сил уже не оставалось. Кое-как разделся, а затем, обругав себя за бестолковость, опять пошел к письменному столу и достал аспирин. Ноги дрожали и не слушались.
Как он дошел до кухни, запил таблетку аспирина холодной кипяченой водой и вернулся назад, помнит плохо. Очнулся уже в постели. Часы показывали семь. Солнце еще ярко било через наполовину задернутые шторы и со двора слышался гомон ребятни, гонявшей мяч. Полежал немного с закрытыми глазами, а потом начал полегоньку медленно вставать. Когда это ему удалось, медленно пошаркал в другую комнату за тонометром. Голова кружилась и подташнивало. Пронес на кухню тонометр и долго возился, прилаживая его на левую руку. Приладив, наконец, принялся качать грушу. Каждый качок больно отдавался в голове и в ушах. Ничего себе: двести двадцать! По идее надо было вызывать "Скорую". Но как только вспомнил всю эту процедуру, да еще будучи один в квартире! Нет, ни за что!
Полтора года назад, зимой, с ним случилась беда: перед этим долго болели почки, несколько дней он лежал в постели и вдруг началась сильная рвота. В желудке обнаружилась кровь. Они с женой вызвали "Скорую". Приехали быстро. В квартире появилась молоденькая врач в сопровождении мрачного парня-санитара, с которым она, на удивление, разговаривала по-русски. Кое-как собрались и жена, маленькая пожилая женщина, вдвоем с врачихой под руки тащили его, почти не переставлявшего ноги, с девятого этажа к машине. Санитар молча следовал за ними, ни разу не притронувшись к процессии. Когда, наконец, подошли к машине, никак вдвоем не могли его поднять на ступеньки и втолкнуть хотя бы вовнутрь. Шофер сидел за баранкой и любовался ночным лунным небом, а санитар злобно наблюдал за всем происходящим. Наконец, не выдержав, санитар, грубо приподняв сразу обоих, его и жену, брезгливо забросил их, как какое-то отребье, в салон, что-то по-своему буркнув себе под нос. От удара об пол и от наступившей сильной боли в пояснице, он громко застонал и попросил санитара, мол, нельзя ли полегче. На это на ломаном русском получил злобный ответ: все, мол, ясно: слишком нежные. Жена было принялась увещевать санитара, что муж, де, не может сам влезть в машину, совсем ослаб. К тому же у мужа, кажется, кровотеченье в желудке. Санитар брезгливо перевел взгляд с жены на него, пытавшегося забраться на холодное длинное сидение, и спросил:
- Ты что, действительно срал кровью?
Пока ехали в больницу на другой конец города по ухабам и ледяным кочкам, машину сильно трясло и он каждый раз громко стонал от нестерпимой боли во всем теле. Санитар при этом тоже каждый раз, переходя на крик, требовал спокойствия и тишины, тараща в его сторону свои черные ненавидящие глаза. Когда же прибыли в больницу, санитар на виду у толпившихся у приемного покоя людей, молча переложил его в подкатившую из отделения каталку. На том и распрощались. Далее врач, и до этого не проронившая ни слова, молча вылезла из машины и ушла куда-то с бумагами, а его в каталке вместе с растерянной женой оставили посреди холодного неприятного вестибюля, двери которого были настежь открыты на улицу. Холод, естественно, был почти такой же, как на улице, и несколько таких же, как и он, бедолаг, томились в каталках, обнаженные и кое-как чем попало прикрытые, окруженные своими близкими и родственниками. Большегрудые тостые немолодые санитарки в замызганых халатах, поверх которых были накинуты синие телогрейки, царствовали в этом почти траурном холодном помещении, донага немилосердно раздевая поступивших к ним несчастных, и строгими голосами отдавали команды их обеспокоенным и бессловесным сопровождающим. Затем решительно раскатывали каталки в разные стороны по только одним им известным маршрутам. Сопровождающие молча бежали вслед со своими одеялами, подушками и другим наспех захваченным дома скарбом, которым должен быть снабжен каждый больной в современной больнице в этой столице небольшого европейского государства в последний год двадцатого века.
Все это он вдруг ясно увидел и решил: - Нет! Не поеду! Будь что будет! Да и некому его сопровождать в это морильное заведение. Некому за ним везти туда весь необходимый в таких случаях домашний скарб, некому там его караулить в недобром холле, некому раздевать его и некому оставлять его одежду, объясняться с толстогрудыми грубыми и неопрятными санитарками. Некому! Все! Он остается дома!
... Становилось все хуже. Начало болеть сердце. Он снова с трудом на дрожащих непослушных ногах проделал длинный путь за лекарствами, за водой, чтобы их запить. Одновременно думал, не позвонить ли жене с дочерью. Но как представил себе их встревоженные лица, да еще дочка вот-вот должна родить... Да и что они смогли бы сделать за две тысячи кмлометров отсюда? Чем могли ему помочь? Нет, не надо их беспокоить, ни к чему. Он подошел к тяжелой металлической двери и отодвинул задвижку, на которую дверь закрывалась: если что-то с ним случится, смогут попасть в квартиру. Первую же, из прессованной ваты, дверь закрыл на замок: ее всегда можно легко вышибить ударом ноги. Так предусмотрено проектом этого дома. На всякий случай готовился... Затем улегся в постель, укрывшись с головой простыней. Закрыл глаза...
Разбудил его резкий телефонный звонок. Аппарат стоял у изголовья и ему, никак не могущему проснуться, показалось, что он сошел с ума: стоял такой трезвон, а он никак не мог размежить веки. По подбородку стекала сонная слюна, руки - ватные, голова - неподъемная. Зуммер настойчиво верещал. Он еле дотянулся до трубки и снял ее.
- Алло! - хриплым, не своим голосом почти прошептал он в трубку. Слюна все еще стекала по подбородку, и он пытался ее стереть непослушной сонной рукой.
- Алло! Слушаю!
- Эй ты, соня! Все проспал! Дрыхнешь, а у тебя вторая внучка родилась! Поздравляю!
- Спасибо, - машинально ответил он, - а в чем дело?
- Как это в чем дело! Вот ненормальный! Ты понял, о чем речь идет? Дрыхнешь, а у тебя вторая внучка родилась! - радостно повторил предыдущую фразу незнакомый голос в трубке. - Да проснись же ты! Всего-то - одиннадцать!
- Какая вторая внучка? - он никак не мог врубиться в смысл этого уже для него ночного звонка и продолжал размазывать липкую слюну по бороде. Он собрался умирать, а тут...
- Про-о-о-о-снись! - голос становился настойчивее. - Про-о-о-о-снись!
До него понемногу стал доходить смысл сказанного, но он никак не мог понять, откуда и кто звонит. Голова понемногу начала проясняться, и он как-то сразу забыл про то, к чему готовился еще засветло. В комнате стояла сплошная темь, иногда нарушаемая бликами проезжавших мимо дома автомобилей. Не выпуская трубки из рук, он как-то легко соскочил с кровати и включил свет. Действительно, было одиннадцать с небольшим. Внучка родилась! Ну, наконец-то! Он вспомнил, что жена звонила несколько дней назад и сильно беспокоилась, что дочка уже "переходила". Наконец-то!
- Алло! - слышалось в трубке, - алло!
- Алло! - сказал он, поднося трубку к уху, - я, кажется, проснулся, извините. А кто вы?
- Да ты что? - слегка возмутились на том конце. - Как же ты собирался на мне жениться? Уже забыл?
- Я? - у него снова начала болеть голова. - Когда? - задавал он не совсем подходящие вопросы трубке.
- А пятый курс помнишь?
- Простите, вы, кажется, ошиблись номером, - проговорил разочарованно он, собираясь положить трубку.
- Погоди, погоди! Не клади трубку! - как будто увидели все происходящее на том конце. - Вот ненормальный! Не клади трубку! -он, подчиняясь, снова поднес трубку к уху:
- Да?
- Ты что! Никогда не учился на физмате и не ухаживал за одной черноглазой студенткой? Мы же прошлой осенью встречались на тридцатипятилетии со дня окончания!
- А-а-а! - наконец, проснулся он, - вот так звонок! Как же ты меня нашла? И вообще: откуда ты про все знаешь?
Про свое недавнее плохое состояние он сейчас и не помнил. Зато вспомнил их осеннюю встречу. Из двух групп бывших выпускников организатору, тоже их бывшей однокурснице, едва удалось собрать человек восемь. Не обошлось и без курьеза. Когда к назначенному по телефону сроку и месту - одному небольшому кафе на окраине города в непрестижном районе - начали собираться бывшие однокашники, смеху было невпроворот: никто никого не мог сразу узнать, несмотря на то, что все эти годы все жили и работали в одном городе и иногда даже перезванивались. Все сильно постарели и изменили свои формы. Значительно. Ждали организатора, которая, неизвестно почему, задерживалась. Ждали, ждали и начали беспокоиться: сюда ли надо было приходить?
Само место встречи представляло собой старое зашарпанное здание бывшей рабочей столовой времен начала пятидесятых и с тех далеких времен, похоже, ни разу не беленное. По обоим бокам здания находились две пристройки - забегаловки. Правая забегаловка была открыта и там находилось несколько посетителей, лениво потягивающих пиво. Левая была закрыта изнутри. Окна ее были зашторены белыми кружевными занавесками. Все пришедшие на встречу, еще не отошедшие от неожиданных ощущений, возбужденные, в тревоге, что не там собрались, гурьбой подошли к правой, открытой, забегаловке и принялись наводить справки: не тут ли состоится встреча старых выпускников? Вышедший им навстречу важный молодой парень, похоже, бармен, лениво ответил, что не знает ни о чем подобном. Тогда все гурьбой направились к левой, закрытой, забегаловке и попытались заглянуть внутрь. Из-за штор ничего увидеть не удалось. Попытались скромно постучать в железную коричневую дверь. Никто не вышел. Снова гурьбой отправились в правую забегаловку выяснять отношения. Тот же парень теперь мялся, мялся и, наконец, под большим секретом сообщил, что, мол, закрытая левая забегаловка стоит с накрытыми столами и подготовлена к каким-то поминкам. Ждут только, когда народ вернется с кладбища...
В конце концов, минут через двадцать появилась их организаторша, в которой все с большим трудом еле узнали свою бывшую однокурсницу, даже бывшую старосту. Та решительно повела собравшихся к закрытой левой забегаловке: поминки имели быть состояться...
На "поминках" он был с ней за столом рядом, на что он тогда не обратил ровно никакого внимания: как и все пришедшие, он был полон нахлынувших воспоминаний молодости. Собравшиеся громко и невпопад похохатывали, вспоминая отдельные, ранее казавшиеся совсем незначительными, эпизоды их взаимосуществования "во студенчестве". Вино и закуска как бы не присутствовали на этой встрече, отдавая заслуженную дань прошлому. Каждый рассказывал о себе: чего достиг, показывал фотографии детей и внуков. Среди всех он больше молчал и с нескрываемым интересом рассматривал своих состарившихся бывших однокашников. Было грустно. Несмотря на теплую осеннюю погоду на дворе, в забегаловке стоял могильный холод и он, как и большинство собравшихся, не решался сначала снять верхнюю одежду. Когда же от разговоров, воспоминаний и выпитого в забегаловке немного потеплело, он снял свою старенькую выцветшую куртку, и все невольно повернулись в его сторону: на лацкане его потертого выходного костюма подблескивали, надраенные им по столь праздничному случаю и впервые надетые им со дня их вручения две серые медальки, такие же серые, какой оказалась и прожитая ими всеми инженерная и учительская жизнь. Это была оценка его многолетнего бега впереди всех с красным флагом. Все понимали, что заработать такое беспартийному да еще инженеру в те времена было невиданным случаем. И оценили: молча и восхищенно смотрели на два серых круглых диска и на их муаровые ленточки. В ее глазах тогда он впервые заметил то, чего никогда и не надеялся увидеть еще со студенческих времен. А когда он показал всем несколько номеров небольшого в зеленой цветастой обложке журнальчика, в котором были опубликованы его последние стихи, он увидел в ее глазах...Нет! Этого не передать, что он увидел! Как будто им обоим было по двадцать три!
- Вот это звонок! Как же ты меня нашла? И вообще: откуда ты про все знаешь? - медленно повторил он после стемительно пронесшегося в нем вихря воспоминаний. - Невероятно! А я уже, было, собрался...
- Положить трубку? - за него закончила она.
- Да нет... - нехотя ответил он, вспоминая о недавнем неприятном. - Нет, это другое. Да и слава Богу, что не получилось.
- Что же ты собирался делать, негодник? Хорошее или плохое?
- О хороших событиях я уже давно не помню, - начал, было, он переходить на минорную ноту. - Я...
- Все, все, все! - торопливо перебила она, - тебе радоваться надо: внучка родилась! Твое маленькое кровное. Тво...
- Так откуда же все-таки? - перебил ее он, - и телефон...
- Да все очень просто: ты, "великий математик", как всегда, забыл, что наши дочки - подружки.
- Ах, ну да! Эти ваши бабские дела! Подружки-хрюшки! - он пытался скрыть досаду за напускной грубоватостью: он действительно напрочь забыл, что их дочери дружат еще со своих университетских начал.
Он вспомнил, что многочисленные подружки его дочери, как по школе, так и по университету часто бывали в их доме. Обычно с ними вместе с дочерью "водилась" и его жена. Она всегда была в курсе всех их девичих перипетий. Он же из них почти никого никогда не запоминал. Когда он приходил с работы и заставал кого-нибудь из них у себя дома, буркал свое "здравствуйте" и удалялся в свои пенаты. Однажды, придя домой с работы, из прихожей на кухне он увидел очередную подружку. Та сидела за столом к нему спиной и что-то жевала. Такая картина его ничуть не удивила, потому что подружки часто приходили на обильные и вкусные угощения его жены. Дочь сидела напротив нее и что-то, видимо, до этого рассказывала веселое: с ее смешливого личика еще не успела исчезнуть озорная улыбка, а во рту застрял кусок "мамкиного" пирожка. Действительно, обе успешно расправлялись с пирожками, горкой лежащими перед ними на широкой белой тарелке.
- Здравствуйте, - привычно буркнул он и направился к себе в комнату.
- Здрасьте! - подружка повернулась к нему лицом, и он сразу вспотел: на него глядела она, только моложе на двадцать лет! Это была именно она, и он, вдруг растерявшись, так , как был вполоборота, так и застрял колодой в прихожей. Подружка изумленно смотрела на все происходящее с ним, а дочка весело расхохоталась:
- Ну, как, папка, сюрприз?
- Ничего себе! - наконец, выдавил он, - одно лицо!
Подружка встала и вышла из-за стола, ничего в происходящем не понимая, а дочка звонко и заливисто хохотала.
- Папка! - наконец, перестала она смеяться, - это я все подстроила. Как-то я пришла к ним домой в ее отсутствие, - она кивнула на недоуменно торчавшую у стола подружку. Он определил, что та была наголову выше своей матери. - Ее мама была дома. Она спросила мою фамилию, чтобы передать потом своей дочери, кто из подружек приходил к ней. Когда она услышала мою фамилию, то спросила, как зовут моего папу. Я ответила. Тогда она рассказала мне, что вы вместе учились в университете и что у вас была чуть ли не любовь... Вот я и решила...
- Решила все подстроить? - перебил он ее, хмурясь. - Какая любовь? Я уже тогда был женат на твоей маме!
- Ну и что! Ну и что! Все равно интересно!
- Очень! Особенно для меня! - не то в шутку, не то всерьез пробурчал он и удалился к себе.
Все эти события четко предстали перед ним, хотя с того дня прошло уже более пятнадцати лет.
- Вот оно что! - после небольшой паузы, наконец, пробормотал он, - вот оно что! Значит, твоя шмыгалка звонила моей?
- Да нет, все наоборот: та ей звонила прямо из больницы. По мобильнику сообщила.
- Крутые нынче пошли девочки, - хмыкнул он.
- Да, кстати, я теперь почти рядом с тобой живу, - сообщила она и назвала улицу, которая действительно находилась на расстоянии одной троллейбусной остановки от их дома.
- Ясно, - не удивившись, ровным голосом ответил он. - Вот хорошо бы было, если бы ты сейчас пришла ко мне! - вдруг самопроизвольно сорвалось с его губ. Он тут же испугался сказанного. Трубка сразу замолчала. Пауза длилась, как ему показалось, почти целую вечность. Он и сам испуганно молчал.
- Ты с ума сошел! - вдруг шепотом произнесла она, - просто сошел с ума! Столько лет!
- Причем тут лет? - осмелел он, зная, что она уже более десяти лет живет одна и занимается только своими внуками. - Причем тут лет?
- Я просто позвонила тебя поздравить. Безо всякой задней мысли.
- Мне очень плохо... было, - выдавил он. - Я собирался... Ну, в общем, не важно... Если бы ты сейчас приехала!
- Ты точно не в своем уме! - врастяжку четко прошептала она. - Да и как я приеду? Ночь на дворе!
- Возьми такси! - быстро перебил он ее шепот. - Такси возьми!
- А внуки? Куда я их дену?
- А они что, у тебя находятся?
- Конечно! Дочь их забирает только на субботу и воскресенье. Все остальное время я с ними.
Он шестым чувством ощутил, что она тоже хочет его видеть. Вот прямо сейчас, сию минуту. Его сильное недомогание куда-то улетучиось, точнее сказать, он про него просто забыл. Он задрожал той нетерпеливой мужской дрожью, которая наступает у каждого мужчины перед близким обладанием женщиной.
- Как же быть? - откровенно растерянно спросил он. - Как же быть?
- Не знаю, - все еще шепотом, но уже на все согласная, ответила она.
- А может, тогда я к тебе приеду? - наобум ляпнул он, не находя выхода.
- А внуки?
- Они же, наверно, спят? А рано утром я уйду.
- Нет, уже слишком поздно, - не согласилась она. - Это последнее "слишком поздно" привело его в настоящее уныние: выражение можно было понять и как метафору. Прошло ведь тридцать пять лет со дня их последнего "разлучительного" разговора, точнее - недоговора, когда они, казалось, навсегда разошлись в разные стороны по жизни. Разошлись, вроде того не желая, но и особенно не препятствуя этому. Разошлись под давлением обстоятельств. Что-то мешало им тогда поговорить откровенно, начистоту, и открыть друг другу свои чувства. Может потому, что оба были к тому времени связаны определенными узами и не решились их даже коснуться. Боялись: грех.
- Ничто никогда не поздно, - он почему-то тоже перешел на шепот. - Ничто никогда не поздно.
- Может быть... - неуверенно начала она.
- Что? - оживился он, зная из собственного опыта, что женщина всегда в любых ситуациях что-нибудь придумает. - Что?
- Без четверти восемь я отправляю детей в садик и в школу. Дочь присылает за ними машину. И целый день я свободна...
- А я в восемь должен быть на работе, - уныло проговорил он. - Точно в восемь...
- Да! Как говориться, - не судьба! - он через трубку почувствовал ее горькую улыбку. - Не судьба.
- Да почему же не судьба! - решительно и звонко проговорил он, - судьба! Завтра к восьми я буду у тебя! А с работой как-нибудь выкручусь! Не убьют же за неожиданный поход, скажем, в... поликлинику!
- Да? - тут же откровенно обрадовалась она. - Точно сможешь?
- Точно. Если к этому времени не умру.
- Ты что это? - тревожно спросила она.
- От ожидания, от ожидания, - радостно успокоил ее он.
2.
Назавтра в точно договоренное время и по указанному ею адресу он стоял перед железной дверью ее квартиры, не решаясь нажать на кнопку звонка. ...Она открыла ему сразу, словно стояла все время с той стороны двери и ждала. Глаза ее лучились. Тоненькая фигурка, облаченная в черные джинсы и сиреневую кофточку-безрукавку, немного наклонилась в его сторону, и он, не задумываясь, просто поцеловал ее в шею. И почему-то шепотом произнес:
- Привет!
- Привет, - ответила она, улыбаясь, и закрывая за ним дверь, как-то странно посмотрела на него. Наверное этот поцелуй, первый в их жизни поцелуй, произошедший с его стороны естественно, сам поцелуй, который он бы никогда в жизни не посмел сделать, да и никогда не думал, что такое станет возможно, этот запоздалый поцелуй уже пожилого человека ее развеселил. Она, как и он, не почувствовала в нем ничего крамольного, ничего оскорбительного, и тем более ничего намекающего на близкие отношения между мужчиной и женщиной. Обыкновенный и ни к чему не обязывающий поцелуй старого знакомого. И не более того.
- Проходи вон в ту комнату, - она показала в сторону, противоположную прихожей. Там находилась комната, из открытой двери которой виднелось красивое, обтянутое белой кожей с круглыми крупными подлокотниками глубокое, современного дизайна кресло. Перед ним стоял небольшой коричневый журнальный столик с какими-то безделушками на нем.
- Надень вот эти тапочки и проходи, - она указала на черные открытые мужские сандалии. - Это домашняя обувь моего зятя, когда он здесь появляется, - пояснила при этом она. - Проходи, я сейчас. - И исчезла в каком-то боковом помещении.
Он аккуратно прошел в чужих домашниках в указанную ею комнату, и войдя в нее, увидел вдоль стены слева от двери красивый диван, оформленный как кресло. С другой стороны увиденного им еще из прихожей журнального столика симметрично креслу-дивану находиллось такое же кресло-диван. Справа от двери стену закрывал светлый мебельный гарнитур. Светлые, богатого вида шторы, ниспадали почти до пола в единственном и крупном окне комнаты.
Она где-то задерживалась, и он осторожно уселся на краю дивана, не зная, куда деть начавшие вдруг мешать ему руки. Ничего толком не соображая, стал разглядывать обстановку. Сердце его учащенно билось и руки начинало потрясывать. "Не хватало еще затрясти головой и тогда будет полный компот", - про себя подумал он и улыбнулся. Сразу стало немного спокойнее. Вспомнилась почему-то картина "Сватовство майора" из Третьяковки. Ему совсем стало весело и он пересел на середину дивана.
Наконец, появилась она. Он отметил, что и она испытывала от их встречи большую неловкость. Ее долгое непоявление указывало на то, что она пыталась как-то придти в себя от всего происходящего. На лице ее присутствовали следы от пудры, которой она неудачно пыталась скрыть выступившие на нем красные пятна.
- Ну, вот и я! - проговорила она чересчур весело, но он уловил в ее чрезмерной веселости какой-то надрыв. - Ну, вот и я! - повторила она, усаживаясь рядом с ним на диван. - Как ты решил с работой?
- У жениха примерно полтора часа времени, - глядя прямо в ее черные и совсем не постаревшие глаза, тихо произнес он и мягко взял ее за руку. Она руки не отняла и, повернувшись к нему, принялась, как ему показалось, молча рассматривать его. Он тоже молчал и, продолжая держать ее за руку, глядел в ее глаза. Немая сцена длилась целую вечность.Он не выдержал, взял свободной рукой ее за шею и медленно притянул к себе. Она не сопротивлялась. Черные глаза ее закрылись, он нашел ее губы...Поцелуй был глубокий и длительный. Как то время, что разделяло их все эти десятилетия. Одновременно он принялся расстегивать ее легкую кофточку, и она взяла его за руку, которая так бесцеремонно старалась добраться до ее маленькой упругой груди. Она сжимала и сжимала его руку, сжимала и сжимала, а он ею - ее грудь... После груди настала очередь пуговиц на джинсах. Тут губы ее разжались, и она зашептала ему в ухо:
- Не надо... Я еще не готова... Не надо... - Но он молча расстегивал пуговицы и снова поймал ее губы... Потом они оказались другой комнате, сплетенные вдвоем в постели. Она сама сняла джинсы, не разнимая с ним губ, потом...
Потом с ним случился обыкновенный мужской конфуз. Она лежала на спине с закрытыми глазами, положив на них одну руку, а другую протянула вдоль обнаженного тела. Он пытался войти в нее, но у него ничего не получалось. Не получалось и все! Впервые за свою долгую жизнь он так проехал с женщиной! Она молча лежала в прежней позе, не выказывая никаких эмоций, и это его сбивало. Ему даже показалось, что у нее своя, только ей присущая конструкция, и он никак не мог найти вход в это сооружение. Он маялся и маялся с ее неподвижным напряженным телом и ничего не мог поделать.
- Я давно забыла, как это делается, - наконец, виновато произнесла она, не убирая руки с глаз, - совсем-совсем забыла...
- Ты никак не разморозишься после длительной спячки, - прошептал он. - Ну, попробуй...
- Я стараюсь, - шептала она.
Но у него ничего не получалось. Тут совсем некстати к нему, как пиявка, прицепился мотивчик одной известной российской группы. Всех слов песенки он точно не помнил, но в голове постоянно звучала ее мелодия. А слова, что вспомнил он в этот позорный для него момент, непроизвольно соединил с пришедшими ему в голову своими:
Ун уомо* часто нюхал кокаино,
Его дер штуцер впал в дер нестоит...
Песенка впилась в него хуже лесного клеща, чем окончательно привела его к полному фиаско. На ум уже ничего не шло, кроме этих глупых и пошлых слов. Он встал с постели, понимая, что сегодня у него с ней ничего в этом плане не получится, что дело не в ее особой конструкции, а что она его просто не пускает в себя, и что его дер штуцер тут просто не причем. Он тихо подошел к ней с ее стороны постели. Она продолжала лежать в прежней позе. Поцеловал ее в губы:
- Мне пора! Ты - умница, и я постараюсь тебя разморозить. - Она убрала руку с глаз, и он увидел, что две крупные слезинки уже давно выкатились наружу и удивленно застыли на наспех напудренных к случаю и сильно побитых жизнью и временем щеках. Когда он уходил, она молча прижалась к нему и поцеловала его в шею:
- Ты прости меня!
- Я люблю тебя! - не глядя на нее, торопливо произнес он и закрыл за собой дверь.
Все время, пока он был на работе, они перезванивались, говорили друг другу всякие глупости, радовались друг другу и скучали. Он выбирал моменты, когда сидящие рядом коллеги отлучались и, прикрывая ладонью трубку, шептал в нее всякие давно несвойственные ему слова. Сотрудники были сплошь молодые, вчерашние выпускники ВУЗов и, если бы они услышали, что несет в трубку этот дед, то вполне наверняка вызвали бы "Cкорую". Вечером, по приходе его с работы домой, они снова созвонились, говорили друг другу всякие приятные слова и одновременно с этим искали способа новой встречи. У нее внуки уже были дома и она собирала их ко сну.
- Знаешь, - сказала она, - а что если ты придешь ко мне сегодня часов в десять? Внуки уже будут спать. А рано утром уйдешь. А?
- Ты что? - явно перепугался он. - Какой из меня Ромео! А вдруг кто из них проснется и увидит незнакомого дедушку среди ночи? Представляешь себе эту картину?
- Это все я беру на себя. Ты не волнуйся. Они еще ведь маленькие. Не проснутся.
- Ничего себе маленькие! - волновался он, - семь и десять лет! Да они сразу все поймут!
- Ты сам еще совсем маленький, - ласково произнесла она, - всего боишься. Приходи. Все будет хорошо. Как только дети уснут, я тебе позвоню. Хорошо?
- Договорились, - неуверенно и с тревогой в душе произнес он. - Договорились.
- Тогда пока? - и она положила трубку. В десять двадцать вечера затрезвонил телефон и на его "Да" он услышал шепот:
- Спят, приходи.
- Хорошо, - коротко ответил он, положил трубку и стал торопливо собираться. Одевшись, вышел на неосвещенную площадку, наощупь запер дверь и также наощупь спустился по темным лестницам во двор. Торопливо, как вор, прошел к соседнему дому и через его подъезд вышел на улицу. Маршрутку ждал минут семь. В столь поздний час в ней он оказался единственным пассажиром. Когда подъехали к знакомому дому, он попросил водителя остановиться. Вышел и по широкому неосвещенному полю перед домом, продираясь сквозь какие-то кустарники, которых днем он и не заметил, осторожно подошел к дому, отыскал необходимый подъезд, вошел и вызвал лифт. Хотя кругом было пустынно, он молил Бога, чтобы с ним в лифте никого не оказалось. Благополучно доехал до знакомой двери. Звонить не стал, а тихонько постучал в железо. На этот раз она точно стояла за дверью и ждала его стука: боялась разбудить детей. Открыла. Как два заговорщика, обмениваясь жестами, они проследовали мимо комнаты, в которой спали дети, на кухню.
- Не бойся, - прошептала она, наконец. Только что уснули. Набегались. Их теперь и бомбой не разбудишь. Пошли в лоджию. Там пока посидим.
- А если они все-таки проснутся? - неуверенно спросил он, направляясь за ней.
- Да не бойся же! Они сюда никак не попадут, чтобы я их заранее не услышала.
- Хорошо, - он немного успокоился, прошел в лоджию и сел за небольшой изящный дубовый столик, находившийся ровно посередине лоджии. Вопросительно посмотрел на нее.
- Я сейчас, - ответила она на его немой вопрос и исчезла на кухне. Через несколько минут вошла с бутылкой минеральной воды, двумя маленькими фарфоровыми чашечками и небольшой вазочкой из синего стекла, на которой горкой виднелось фигурное печенье. Все это она поставила на середину столика. Села.
- Садись поближе, - он взял ее за руку и потянул к себе.
- Воду, печенье будешь? - ресторанным голосом спросила она и взглядом указала на только что ею принесенное.
- Я же не в буфет приполз в такую темь, - смеясь, он притянул ее к себе и попытался поцеловать. Она легко увернулась и, глядя ему в глаза, ровным голосом произнесла:
- Расскажи мне о себе. Как ты эти годы жил. И вообще. Я ведь о тебе почти ничего не знаю.
- И я о тебе почти ничего не знаю, - в тон ей ответил он.
- Ну, вот и настало время нам познакомиться, - грустно засмеялась она.
... Он начал рассказывать. Сначала неуверенно, путаясь, не ведая, о чем лучше ей рассказать, перескакивая с пятого на десятое, затем все более твердо, более живо. Исподволь стараясь ей понравиться, он, забывшись, вел себя, как пятнадцатилетний мальчишка перед прыщавой подружкой: невпопад хохотал, строил всякие рожи, размахивал руками, изображая всякие смешные и грустные ситуации... Она внимательно смотрела на него, не перебивала, лишь изредка подливала ему в чашку минералку, которую он тут же залпом, не замечая, выпивал и продолжал, продолжал, продолжал... Наконец, он иссяк от усталости и посмотрел на свои наручные часы. Было половина четвертого утра.
- Я же должен в шесть уйти! - вскричал он. - Боже мой, что же ты меня не остановила! Я совсем с тобой обезумел!
- Ты должен был выговориться, - мягко взяла она его за локоть. - Пошли спать...
Они снова, как заговорщики, пробрались на цыпочках в спальню мимо комнаты, где спали дети, быстро разделись в потемках. Раздевались так, словно они вместе проделывали это все эти долгие десятилетия: спокойно и безо всякого стыда друг перед другом. Легли в постель. Молча пододвинулись друг к другу и слились в долгом-долгом поцелуе. Потом он начал целовать ее шею, груди, спускался все ниже и ниже...
- Ах, - наконец вскричала она сдавленно, - ах, ах! - Она раскрылась, разморозилась, и они надолго слились в полной и всепоглощающей любви... В небольших паузах она жарко его обнимала, жадно целовала в губы и дышала ему в ухо: "Лапочка ты моя родная!"...
Но, как всегда, в самый интересный момент обязательно должно что-нибудь случиться. Не стала исключением и эта ночь. В самый разгар событий в запертую на внутренний замочек дверь спальни начал кулачками барабанить и вовсю вопить ее не к месту проснувшийся семилетний внук:
- Бабушка! Бабушка! Бабушка!
Она мгновенно выскочила из-под своего ночного гостя и метнулась к запертой двери. На ходу схватила какую-то тряпку и, прикрываясь ею, благо в комнате стоял полный мрак, выскочила к внуку, закрывая собой вход в спальню. Затем закрыла за собой дверь и, что-то шепча ребенку, увела его в темное пространство квартиры. Вернулась через несколько минут, легла рядом и, наклоняясь к нему, прошептала:
- Приснилось ребенку что-то страшное. Отвела его в туалет и снова уложила. Уже спит. - Они продолжили свою неоконченную повесть...
К шести часам утра, когда ему следовало уже уходить, они оба так и не сомкнули глаз, и он с шумом в голове после этой необычной ночи, наскоро выпив засунутую ею ему прямо в рот какую-то особую таблетку от давления, на непослушных кривых ногах отбыл восвояси...
Была пятница. Она позвонила ему на работу в середине дня.
- Как ты? Жив? В твоем возрасте... - Она не договорила, но он почувствовал в ее голосе и некоторую укоризну, и нечто более приятное, что заставляло его сразу забывать все на свете. - Я договорилась с дочерью, что она заберет детей к себе не в субботу, а сегодня. Часа в четыре. У нас с тобой осталась всего одна ночь до приезда твоих...
- Хорошо, - коротко согласился он. - С работы я сразу - к тебе.
... Он плохо помнит события этой волшебной ночи. Он провел ее в хрустальном полусне, в нирване. Утром, придя к себе домой, не раздеваясь, упал на неразобранную постель и проспал без перерыва до пяти вечера...
В воскресенье приехала его жена. С понедельника они начали встречаться во время его обеденного перерыва в парке, расположенном в десяти минутах ходьбы от места, где он работал. Сидели валетом, тесно прижавшись друг к другу, на какой-нибудь свободной скамеечке и по большей части молчали. В одну из таких встреч у нее носом пошла кровь. Она пыталась от него это скрыть, но он сразу все заметил. При ней никакой сумочки не было, поэтому он быстро вынул из кармана свой носовой платок и протянул ей.
- Ничего, - успокаивающе сказала она, видя его встревоженный взгляд, - ничего. Это у меня часто случается. Пройдет. - И ободряюще улыбнулась. Платок был весь в яркокрасной крови, она постоянно прикладывала его к своему носу.
- Давай я "Скорую" вызову! - переполошился он. - Тебе же становится хуже!
- Ничего, успокойся! Пройдет, я сказала. Сейчас поеду домой. Все образуется. - Он взял ее под локоть и осторожно повел к троллейбусной остановке. Платок она держала постоянно у самого носа. Дойдя до остановки и глядя на подходящий троллейбус, она, улыбаясь, сказала:
- А ты придешь на мои похороны?
- Типун тебе на язык! - испуганно отшатнулся он. - Что за черный юмор!
- Не ворчи, - грустно улыбнулась она, - Через два дня меня отправляют с внуками на все лето на море. Так что теперь увидимся нескоро. Пока. - она прислонилась к его щеке своей и быстро вошла в подошедший троллейбус, все еще держа у носа окровавленный платок. Он увидел, как какая-то пожилая женщина испуганно вскочила со своего места и стала ее усаживать...
Лето проскочило довольно быстро: целыми днями он работал, ночами мучился от нестерпимой духоты в квартире, мало спал, а днем боролся на работе с перебарывающим его сном. Гнал вперед дни, чтобы поскорей ее увидеть. Потом ушел в отпуск, уехал к дочери познакомиться с новоявленной своей внучкой, возился там с ней, впитывая в себя ее милые детские запахи, гулял с ней на воздухе... Вернулся в самом конце лета, вышел на работу и немедленно позвонил ей. На удивленье трубку никто не брал. Он прозвонил весь день. Она должна была давно уже приехать со своих морей, так как детей надо было готовить к школе. На следующий день он пришел пораньше на работу и сразу же позвонил, пока никого из сотрудников не было рядом. Ответил тихий незнакомый женский голос. Он попросил позвать ее.
- Извините, а кто ее спрашивает? - дрожащим голосом поинтересовались на том конце провода, - кто спрашивает?
- Один ее давний знакомый, - раздраженно ответил он на неподобающее, по его мнению, любопытство.
- А ее нет уже полмесяца как, - разрыдалась трубка. - Скоропостижно умерла.
- А! - сильнейший спазм сдавил ему горло, и он никак не мог с ним ничего поделать.
- Алло! Алло! - рыдали на том конце, но он так и не смог ни слова произнести. Трубку положили.
На следующий день он отпросился с работы, поехал к ее дочери, узнал, где похоронена ее мать и тотчас же поспешил на кладбище. Ее могила была еще свежа, вся в цветах и с ее большим портретом в черной траурной рамке в изголовье. На мир глядели ее огромные черные грустные глаза, глаза, которые не давали ему покоя всю его долгую нелегкую жизнь и которые так не во время, так... Он даже думать не мог об этом: его душили слезы... Так навеки закрылись...
Он упал на сырую землю перед ее портретом, упал вместе с охапкой принесенных с собой цветов среди венков и простых букетов, судорожно обнял небольшой бугорок земли, под которым покоилась его короткая и такая длинная любовь, и громко, не стыдясь, зарыдал. Зарыдал, как рыдают маленькие дети, никогда не понимая, куда и зачем навсегда уходят их близкие...
Придя домой, он натолкнулся на вопросительный взгляд жены, которая после небольшого замешательства беспокойно [Author ID1: at Sun Mar 13 08:54:00 2005 ]с [Author ID1: at Sun Mar 13 08:54:00 2005 ] неподдельной [Author ID1: at Sun Mar 13 08:55:00 2005 ]тревогой [Author ID1: at Sun Mar 13 08:54:00 2005 ]спросила:
-- Ты что, плакал? Что произошло?
И он всё рассказал. Он был не в себе. Его здесь просто не было. Он был ещё там, с ней, у её могилы...
Жена опустила голову и долго-долго молчала. Потом, исподлобья посмотрев на него, мрачно, с хрипом в горле, произнесла:
- Занятная история. Очень занятная... Что же мы дальше-то с тобой будем делать?
- Не знаю, - вяло ответил он. - Ее нет. И я уже умер...
*_____
Ун уомо - один человек (итал)
05.09.2001 г. Кишинев
Бремя судеб наших...
Я впервые увидел ее в начале осени 1995 года. В один из солнечных выходных дней моя жена Маша, к тому времени уже пенсионерка с большим стажем, пошла выносить мусорное ведро. Эту процедуру она мне никогда не доверяла: подход к мусоросборнику для наших трех квартир на девятом этаже был сооружен из местных архитектурных соображений на восьмом, до которого по тем же соображениям доходил лифт, а сам столь вожделенный предмет жильцов прятался сзади лифтовой кабинки. Пока после сдачи дома в эксплуатацию все мы девятиэтажники спокойно заселялись в свои жилища, ни о чем дурном не помышляя и бесконечно радуясь вновь обретенному жилью, к тому же будучи абсолютными новичками в этом, как впоследствии оказалось, совсем не простом деле, не по годам шустрый обладатель одной из квартир на восьмом этаже, как оказалось - "афганец", мигом застолбил пространство за кабиной лифта крепкой кирпичной кладкой с бронированными дверями посередине и, довольно помахивая связкой блестящих новеньких ключей перед глупыми носами ничего не понимающих оторопелых своих новых соседей, объявил о вступлении в полное и окончательное законное владение захваченным пространством.
- Имею право! - нагло объявил он. Я - "участник"!
Наиболее ретивые из соседей тут же бросились жаловаться в ЖЭК, но там, как оказалось тоже совсем случайно, работал брат захватчика, который мягко посоветовал жалобщикам оставить ветерана войны в покое. Он, де, часто бывает не в себе и это в будущем пройдет. Вот тогда он всем соседям даст ключи от ДОТа. А пока, дорогие товарищи, потерпите. Но некоторые товарищи, особенно с девятого этажа, были уж очень нетерпеливые. Они не желали ждать, пока у их нового соседа наступит полная психологическая послеафганская реабилитация, и обратились уже чуть повыше - к районному начальству. И очень неосмотрительно поступили: буквально на следующий же день жэковский брат захватчика, как оказалось, тоже совершенно случайно отвечавший перед Родиной за заселение нашего дома, зачем-то полез на технический этаж и к его ужасу прямо у него на глазах самым таинственным образом одновременно повыбивало все краны с горячей водой над квартирой жалобщиков (а в те далекие времена воды горячей было в любое время года сколько угодно и она мало чем отличалась от современного кипятка). Кипяток, конечно, ни о чем не подозревая, хлынул вниз. При этом кое-как установленные при монтаже дома бетонные плиты никак не способствовали его хотя бы мало-мальскому задержанию и он, кипяток, крупным дождем пролился на все, что было в квартире на его пути, проскочил шустро и в нижерасположенные квартиры и уже, явно обессилев, остановился только в квартире на шестом этаже. Конечно, обои тут же клочьями поотлетали в разные стороны, сверкающий шпон на новеньких мебельных гарнитурах игриво закудрявился, линолеум на полах вспомнил заводскую пору своей молодости и возрадовался, тожестующе издавая уже почти забытые им ароматы... Хозяева немного запаниковали и принялись нервно отыскивать ответственного, т.е. самого брата захватчика мусоросборника. Но тот и не скрывался: он с особым достоинством медленно спускался по металлической лестнице с технического этажа и улыбаясь, принужденно разводил руками:
- Начало дня, товарищи! Слесаря все по - объектам! Потерпите, товарищи! Вот через час буду в ЖЭКе, может, там кого и найду...
Такого делового работника районное начальство не могло не заметить: не прошло и месяца, как оно, начальство, назначило своей волей этого гуся на более ответственное поприще: доверило ему командовать вновь сформированным ЖЭКом в нашем же микрорайоне, выделив ему одновременно соответствующую его новому положению квартиру в соседнем с нашем доме. Кстати, оперативно, к вечеру, в день горячего потопа оно, районное начальство, руками все того же ответственного за заселение нашего дома вручило жалобщикам свой письменный ответ, из которого недвусмысленно явствовало, что поименованный такой-то (далее следовала крупно фамилия захватчика) является участником боевых действий в Афганистане и посему пользуется определенными льготами. Правда, какими, оно, районное начальство, посчитало для себя недостойным сообщить. Мол, чего там, ясно и так. А кому вдруг опять станет не ясно, то у того краны снова могут отказать. Тем более, что горячей воды всегда навалом. Тут уже запахло чистой уголовщиной уже от властьпредержащих и большинство из соседей понимающе махнули на все рукой. Мол, плетью обуха не перешибешь. И начали свозить свой квартирный мусор на лифте вниз на улицу и выбрасывать всякие там свои кульки-свертки в контейнер, стоящий под трубой мусоросборника.
Вся эта процедура мусоровынесения каждый раз доводила меня до белого каления, я ругался последними словами на людскую терпимость и непонятную мне покорность, постоянно вспоминая, может быть даже в чем-то справедливые слова захватчика, брошенные им после всех вышеописанных событий прямо в лицо Маше:
- Эх вы! Жалко мне вас! Жизнь уже прожили, а так ничего и не поняли!
Поэтому Маша, как всегда, оберегая меня от всяческих треволнений, несмотря ни на какие мои настояния твердо брала мусорное ведро в свои маленькие и уже далеко не сильные ручки и неслась с ним вниз. Кроме того, как может быть всякая женщина, Маша обладает таким для меня малопонятным качеством как способность в любое время по пути кого-нибудь обязательно встретить. Говорит, что знакомого. Откуда они всегда берутся у нее на пути? Ну и, конечно, как не заговорить в таком случае! Вот, казалось бы, что тут такого в том, чтобы свезти ведро в лифте? Две минуты туда, две - обратно. Но это - для кого как! Глядишь, нет ее и нет, нет и нет. Ни с ведром, ни без ведра. Может, лифт уже отключили? Спускаюсь на восьмой этаж, проверяю: все в порядке. Лифт работает. Маши нет. Потом вдруг является. Вся запыхавшаяся, возбужденная и... без ведра!
- Ты знаешь, - начинает, - кого я сейчас встретила? - И таращит на меня свои зеленые глаза. - Ты знаешь?
- А где ведро? - первым делом привычно спрашиваю я, - в лифте оставила или у мусоросборника?
Она вначале смотрит на меня недоуменно, а потом, догадавшись, раздраженно машет рукой:
- Езжай да найди его там где-то! Так ты знаешь, кого я сейчас встретила?
- Ну, кого ты там еще встретила? - теперь я уже начинаю заводиться, - кого на этот раз? Где ты их каждый раз находишь? Я сколько раз куда бы ни пошел, никого никогда, НИКОГДА! не встречаю! Но ты же ни единого раза никого не пропускаешь! Ни единого!
- Так ты же и дома то не живешь! Ты все - как-то стороной! Все где-то витаешь! Все - мимо! Никого не видишь!
Ну, теперь пошло-поехало. Обычные дела.
На этот раз все почти в точности повторилось: Маша схватила мусорное ведро, убежала с ним к лифту и опять долго-долго отсутствовала. Я уже и думать забыл, что ее нет, и занимался своими делами. Но вот входная дверь знакомо скрипнула и на пороге оказалась моя по обыкновению возбужденная жена. Правда, на этот раз ведро она нигде не забыла, но глаза ее горели и были широко раскрыты. Я уныло приготовился слушать ее рассказ об очередной незабываемой встрече. У Маши от возбуждения перехватывало дыхание.
- Ну что там случилось на этот раз? - не выдержал я. - Мусорного бака не оказалось на месте и ты ходила выбрасывать мусор за три квартала от нас?
Лицо Маши переменилось, и она от возмущения не могла ничего вымолвить: слова застряли у нее в горле. Чтобы хоть как-то их оттуда вытолкнуть, она яростно замотала головой.
- Я не могла сразу мусор выбросить! - наконец выдохнула она залпом, - не могла!
- Так бак все-таки был на месте? - гнул свое я.
- Знаешь... Ты вечно все осмеёшь! - Ты... - у нее снова начали застревать слова. - Ты... Да ты знаешь, почему я не смогла выбросить мусор? - она наступала на меня, держа все еще в руке мусорное ведро, - знаешь?
- Почему же?
- Да потому, что там две женщины рылись в баке! В нашем мусорном баке!
- Ну и что тут удивительного? - я не понимал ее возбуждения, - ну что тут удивительного? Сегодня это норма жизни в нашей цэришоаре. "Люди и собаки вместе лижут баки" - сострил я.
- Дурак, ты, дурак! - Маша безнадежно махнула в мою сторону рукой, в которой держала ведро. - А ты знаешь, кто эти две пожилые женщины? Знаешь?
- Ну, ты, конечно же, с ними познакомилась? Не так ли?
- "Не так ли?" - горько передразнила меня Маша, - "не так ли?" Эти две пенсионерки - учительницы! Такие же, как я! Да еще оказалось, что мы встречались на ежегодных августовских совещаниях. Го-спо-ди! Го-спо-ди! - она все еще не выпуская из рук мусорного ведра, обхватила обеими руками свою белокурую головку и заголосила, как по покойнику. - Что же это делается-то на белом свете!
- Да перестань ты! Хватит! - не выдержал я. - Этого мне еще не хватало! Все! С сегодняшнего дня я сам стану выносить мусор!
- Да какой из тебя выносильшик! Какой выносильщик-то из тебя! - речитативом прокричала Маша. - Сиди уж и занимайся своими компъютерными делами! Работай, пока держат! Сам-то вон забываешь обувь надеть, уходя на работу! Сколько раз я тебя отлавливала в тапочках на лестнице? Горе ты мое! Выносильщик! - она никак не могла успокоиться.
- Ты пройдешь со своим ведром на кухню, наконец? - прервал я Машу, - или так и будешь выступать в темной прихожей? Оратор должен быть всегда на виду у публики!
- Ты знаешь, - не замечая моей иронии, продолжала она, - ты знаешь...
- Кого ты еще встретила? - перебил я ее. - Кого же?
- Да никого! - обиженно буркнула Маша уже из кухни. - Но, - уже громче добавила: - у нас сейчас будут гости!
- Вот как! Никого не встречала, а гости появятся?
- Какой ты вечно непонятливый! Просто я сейчас ехала в лифте с одной женщиной, которая знаешь в какой квартире живет?
Сказано это было так, будто они ехали из Петербурга в Москву.
- Ну, хорошо, в какой квартире она живет, эта женщина? - я машинально как бы ответил, но уже по привычке отключился, ибо знал, что за этим последует.
- В какой, в какой! - перекривила меня Маша. - В квартире "афганца", вот в какой! Который закрыл наш мусоросборник!
- Она, что, вышла за него замуж?
- Какой "замуж"! Какой "замуж"! - Маша от возмущения даже зашипела. - Ты что, с дуба упал, что ли? Да оторвись ты, наконец, от своих дел! Хоть один раз можешь ты меня нормально, по-человечески, выслушать?
- Ну что там еще вселенского произошло? Что там такого случилось? - заныл я, - что? Кто там за кого вышел, пока ты в лифте каталась?
- Да ты что не знаешь, что "афганец" вот уже полгода как продал свою квартиру и уехал жить в Румынию к родственникам?
- Меня это мало интересует. Давай скорее говори, что там у тебя произошло опять? А то мне некогда.
- Тебе всегда некогда, когда дело касается меня! - неожиданно повернула Маша, швыряя пустое ведро на место под мойкой. Хорошо, что ведро было с крышкой, да еще пластмассовое. Не то пришлось бы наблюдать его слезы и слышать его плач. Но ведро только глухо вздохнуло и, немного поколебавшись в тесном пространстве, примолкло с набекрень съехавшей крышкой. Ничего не поделаешь: мне пришлось отложить свои дела и изобразить мало-мальски заинтересованное лицо, ибо тучи уже сгущались. К тому же к этому времени я уже сидел на кухне и укрыться в другой комнате было бы не совсем удобным.
- Ну? - я смотрел на Машу как можно более заинтересованно. - Что там такого в лифте произошло?
- Ничего там не произошло! Ровным счетом ничего! - Маша была красна, как рак.
- Кроме того, что ты за десять секунд движения лифта успела познакомиться и разговориться с незнакомым человеком, - не удержался все-таки я
- Да! Вот и успела! Я всегда во всем успеваю! В отличие от некоторых! Не станем уточнять! Вот успела познакомиться! Она сама со мной заговорила!
- А, - махнул я рукой, - вы все, как с одной колодки! Не ты, так она! Какая разница! Давай выкладывай, что там тебя так мучает. Только, пожалуйста, покороче.
- Покороче, покороче - немного успокаиваясь, пробурчала Маша, - всю жизнь у тебя нет времени толком хоть раз меня выслушать, - она опять пошла на взвод. - Всю мою жизнь у тебя нет времени!
- Ладно, ладно, успокойся. - Я еще поднатужился и выправил себе еще более заинтересованное лицо. - Давай, я слушаю.
- Сейчас к нам в гости придет одна девочка. Малюсенькая такая! Хорошенькая! Такая сладулечка!
- Ну, все теперь ясно, - заулыбался я. - Ты, как только какого-нибудь малыша заприметишь, тебя уже ничем от него не оторвать. Где же ты успела узреть эту сладулечку? Тоже в лифте? Из-за того, что твоя внучка далеко отсюда, ты всем деткам проходу не даешь! То сладости всему подъезду раздариваешь, то еще что-нибудь! Давно тебе эти сопливцы не стучали в дверь и не просили "Бабушка, дай конфеток"?
- Да о чем с тобой говорить! - опять безнадежно махнула рукой Маша, - о чем с тобой говорить, инопланетянин!
- Ладно, ладно! - прервал я Машу, - так где ты эту девочку откопала?
- Я же тебе все это время и пытаюсь объяснить, где. В лифте сейчас со мной ехала ее мама, Патричия. Они с мужем и с дочкой уже второй месяц живут на квартире у женщины, которая купила ее у "афганца". Сама хозяйка сейчас живет в Мексике.
- Ничего себе география! - удивился я. - Где - Молдавия, а где -Мексика! А как она туда попала?
- Я точно не знаю, но, кажется, она вдвоем со своей сестрой бросили своих безработных мужей и подались за океан на заработки. Одна из них вернулась обратно ненадолго, купила вот эту квартиру, сдала внаем и снова укатила назад, а за квартирой оставила присматривать третью свою сестру, которая живет здесь, в Кишиневе.
- И все это ты в лифте узнала?
- Да что ты привязался ко мне с этим лифтом? Мы вышли и разговорились с Патричией. У них там. На площадке. Потом она меня пригласила к себе домой.
- Зачем?
- Да не без умысла. Говорит, что давно заприметила, как дети ко мне липнут. И хочет, чтобы я с ее дочкой посидела, пока она ее не устроит в садик. Сама она пока что находится в декрете, но думает скоро выйти на работу.
- А где работает?
- Где-то в Примэрии, в отделе по работе с молодежью.
- Неужели еще такой существует?
- Пока, говорит, что да. Но, якобы, скоро его могут прикрыть. Так что, сидя дома, она может остаться без работы. Поэтому-то и спешит выйти на работу раньше времени.
- Она, что, бывший комсомольский работник?
- Да не знаю я ничего еще толком! Сказала мне только, что до замужества окончила химфак и аспирантуру, но не защитилась.
- А муж?
-Он вообще у них кандидат сельхознаук. Зовут Раду.
- Да, не зря ты так долго отсутствовала, не зря. Столько информации! И все благодаря одному мусорному ведру!
- Ты опять за свое?
- Не буду, не буду! А где этот Раду работает?
- Да у того положение хуже губернаторского.
- Чем же?
- Работы-то, сам понимаешь, нигде нет. Вот кое-как устроился у своего какого-то дальнего родственника, бывшего шоферюги, а теперь владельца то ли колбасного цеха, то ли еще чего-то в этом роде, сначала чернорабочим, а теперь немного пошел на повышение: доверили заготовлять скот по селам. Мотается неделями не только по Молдове, но и по Украине и Румынии. Где что найдет.
- Да... Так что же с ребенком? Ты действительно собираешься с ним сидеть?
- Ну а почему бы и нет? Ей чуть больше двух с половиной. Такая хорошенькая!
- Да у тебя других деток не бывает! - засмеялся я. - Горбатого могила исправит! А, кстати, как же ты собираешься с ней общаться? Ведь она, я думаю, по-русски ни бум-бум, а ты по-молдавски - ни слова. Класс! А во-вторых, какую плату ты в этих условиях собираешься с них брать?
- Тебе, конечно, славненько: ты целыми днями - на работе, а я тут сколько времени одна уже с ума схожу! - Маша начала нервничать. - Одна, одна и одна! Не с кем и словом переброситься! А тут такая возможность! Патричия сказала, что может расплачиваться кое-какими продуктами. У нее родители живут в каком-то райцентре. Денег не обещала, но продуктами... Вот! - неуверенно закончила Маша и почти просительно посмотрела на меня. - Давай возьмем малышку, а? Это ведь совсем не надолго: пока в садик не устроят. Продукты нам сегодня ох как не помешали бы! Ох как не помешали бы! А? Тебя вот не сегодня-завтра могут попросить с работы... Что тогда станем делать?
- Ну вот, опять начинается сказка про белого бычка! С работы, с работы... Я и сам без тебя не хуже это понимаю. Дожились: за харчи надо идти "в люди"! - настроение у меня испортилось. - Делай, что хочешь. Не понимаю только, как ты с ней будешь объясняться?
- Да она еще совсем малюсенькая! Научится! Поймет меня! Я вот ее сейчас приведу к нам! Познакомимся! - последнее слово донеслось до меня уже с лестничной площадки...
Через несколько минут загремела входная дверь и в проеме кухонной двери я увидел... маленькое чудо, которое Маша легонько подталкивала ко мне сзади под спинку.
- Вот! - глаза у Маши радостно блестели. - Вот мы пришли познакомиться.
Чудо молча, не мигая, смотрело на меня своими огромными цвета глубокой южной ночи глазами, не оставлявшими, как мне сразу показалось, больше ни для чего места на чуть смугловатом личике. Чернющие, как смоль, густые крепкие волосы на голове были собраны в два толстых пучка по бокам, на каждом из которых красовалось по огромному красному банту. Красный шерстяной костюмчик, состоявший из кофточки с аппликацией на груди справа из белого зайчика и коротенькой гофрированной юбочки, продолжался белоснежными рифлеными колготочками и заканчивался красненькими малюсенькими туфельками. Меня особенно поразила по-настоящему лебединая шейка у этого чуда. Да...
- Ну, подойди ко мне, не бойся, - сказал я чуду по-молдавски. - Подойди к дедушке.
Чудо неуверенно двинулось ко мне и в метре от меня остановилось, вопросительно поглядывая.
- Подойди, подойди к дедушке поближе! Не бойся! - защебетала сзади нее Маша, немного подталкивая чудо вперед.
- Она тебя не понимает, что ты тут щебечешь! - рассмеялся я.
- Много ты понимаешь! - тут же обиделась Маша, - дети меня чувствуют! Я знаю!
- Оставим этот спор! Может, и чувствуют. Давай-ка мы лучше с ней поговорим. - И я обратился к чуду:
- Ты чья? Как тебя зовут?
- Я, - твердо и членораздельно и, как мне показалось, с каким-то внутренним достоинством произнесло чудо, - я - Элина Пуишор! Я - мамина и папина, умница и красавица!
- Вот это да... - серьезно сказал я и перевел ответ Маше. - Браво! А я - дедушка Боря, а это, - я показал на восхищенную всем происходящим Машу, - это - бабушка Маша. Поняла?
Чудо утвердительно кивнуло головой и молча уставилось на меня...
Маша договорилась с мамой Элины, что потребуется некоторый период адаптации, всего три-четыре дня, когда "мамика Патричия" должна быть дома, а девочка по два-три часа в эти дни будет общаться с ней, с Машей, с буникой Машей. Слова "мамика", "татику", "буника", "бунелу" были родными для малышки, не имевшей понятия ни о каком другом, кроме материнского, языке, и поэтому Маша должна была с самого начала их употреблять вместо "мама", "папа", "бабушка", "дедушка". У ребенка должен остаться хоть какой-то мостик к ее родной речи.
Прошла неделя... Каждый день, приходя вечером с работы, я интересовался у Маши, как у них с Элиной происходил процесс общения в этот день. Мне самому была не по себе эта, как я считал, чистейшей воды авантюра не только со стороны моей жены, но и со стороны мамики Патричии.
- Неужели, - в один из вечеров пенял я Маше, - Патричия не могла найти ребенку няньку-молдаванку? Такого же, как и ты, педагога! Да в наше нелегкое время только свистни! Сразу прибегут десятки даже со знанием японского, а не только родного ей молдавского! Я в первую очередь ее не понимаю! Может, она таким образом хочет обучить ребенка русскому языку?
- Что ты! Бог с тобой! - испуганно махала рукой на меня Маша. - О чем ты говоришь! Как я поняла из разговора с Патричией, они с мужем такие крутые румынофилы, что о чем-то русском в их кругу и напоминать-то, мягко говоря, считается дурным тоном! Даже более того - непатриотичным! Помнишь, у нас на историческом деканом был Афанасий Иванович покойный?
- Конечно. Маленький такой, худенький. Когда нас с тобой где-нибудь вместе встречал, всегда вежливо улыбался и здоровался. Потом его еще, кажется, в ЦК забрали заведующим каким-то сектором в отдел пропаганды. Ну и что с Афанасием Ивановичем?
- Да я то ли с первого, то ли со второго курса дружила, да ты должен помнить, с такой симпатичной блондинкой с длинными роскошными волосами. Помнишь?
- Нет, - ответил я, - не припоминаю. У тебя подруг была тьма.
- Да помнишь ты! Эльзой ее звали! У нее, кажется, мать - немка, а отец - молдаван. Мы еще летом с ней подрабатывали воспитательницами в детском саду... Да у нее еще муж был каким-то чином в МВД. Я тебя через него пыталась устроить на время летних каникул подработать связистом в школу МВД. Ну?
- Да, да! Вспомнил! И Эльзу вспомнил, и его, подполковника! Ну и что?
- Так вот мне Эльза рассказала под большим секретом...
- Ха-ха-ха! - перебил я тут же Машу, - у вашего брата - все "под большим секретом"!
- Зря смеешься! - обиделась Маша. - Сколько я натерпелась на этом факультете только из-за того, что я - москвичка, одна только я знаю! И Эльзе нечего было придумывать!
Так вот, как-то вызывает ее к себе наш незабвенный Афанасий Иванович, пусть земля ему станет пухом, вызывает к себе в свой деканский кабинет и напрямик интересуется, что же это она, жена такого уважаемого человека, молдаванка, водит уж очень тесную дружбу "с этой русоайкой", т.е. со мной. Вот, мол, и Коля Костин, один из передовых студентов факультета, заходил ко мне с этим вопросом. В общем, настойчиво советовал поразмыслить Эльзе над всем этим. Та, конечно, плевалась потом вовсю, рассказывая мне об этом, а Коля Костин, сам знаешь, чего достиг на этой тропе...
Вот теперешние мои работодатели это, как мне показалось, - прямые последователи Коли Костина. В подтверждение скажу, что с понедельника Патричия выходит на работу в Примэрию и в связи с этим очень деликатно меня проинформировала, чтобы я ей на работу не звонила: со мной ведь придется разговаривать по-русски и сотрудники обо всем догадаются в отношении Элины. Могут, мол, не так понять. Она, мол, сама будет звонить мне откуда-нибудь по другому телефону.
- Ну, мадам, - сказал я Маше, - вы и вляпались! На кой черт тебе вся эта национальная канитель? Да еще обе станете ребенка мучить! Мамашка не может дать указания няньке, потому что прилюдно надо изъясняться на вражеском языке, нянька, кроме вражеского, никакого другого не знает, а ребенок не знает вражеского! Зачем вы обе все это затеяли? Никак в толк не возьму! Отказывайся, пока не поздно! От - ка - зы - вай - ся!
- Тут есть один нюанс,- замялась Маша. - Маленький такой нюансик.
- Ну...
- Я не знаю, как это сказать... Как бы это попонятнее выразиться...
- Давай выражайся, как можешь, что ты мнешься? - я никак не мог выйти из раздражения. - Выражайся поскорей, я пойму!
- Ну... в общем... мы сразу понравились друг другу. Как мать и дочь. Патричия такая беззащитная! Смотрит на меня своими огромными грустными черными глазищами. Как маленький ребенок. Ищет защиты.
- Да видел я уже этого "ребенка"! Ты - мама-курица, а она - дочь-страус! Да и при чём тут "нюансик"? Вас обеих вынуждают жизненные обстоятельства идти на эту сделку. Но для тебя эта сделка не подходит! Отказывайся, я тебе сказал!
- Рост здесь не имеет никакого значения! - не обращая никакого внимания на мой нажим, гнула своё Маша, и голос её становился непреклонным. - Патричия - большой ребенок, только и всего. Родители у нее далеко: в районе. Она - ребенок выкоханный, как говорят украинцы. А тут оказалась одна в большом городе. Часто не знает, что делать и как поступать. Ей мать еще нужна. Да она мне все время в рот смотрит! Она же на год младше нашей дочери!
- Ну, ты точно - курица! Хотел сказать "Мать Тереза", но воздержусь! Твоей собственной дочери мать не нужна: укатила за тридевять земель, а этой, видите ли, подавай мать, хотя до родителей всего шестьдесят километров!
- А может, я ее понимаю больше, чем мать! И она меня тоже! Я когда ее вижу беспомощную... - у Маши навернулись слезы.
- Стоп, стоп, стоп! Дальше тебя уже бесполезно переубеждать! Пошли слезы! Всесильный аргумент вашего брата. Она же не одна здесь: у нее есть муж. В конце концов, мать с отцом могут приехать в любое время...
- Все! Я в данный момент ее не брошу!
- А если ей с тобой нечем расплачиваться будет?
- Да Бог с ней с этой оплатой! Обойдёмся! Я всё равно дома сижу и ни с кем почти не общаюсь. Озверела уже от одиночества. Да и "не хлебом единым"...Ты не знаешь, что это такое быть с маленьким ребенком и идти работать, когда рядом никого нет, когда даже своего жилья-то не имеешь и болтаешься по квартирам!
- Да муж же у нее есть! Почему же рядом нет никого? У нас с тобой в свое время ситуация, по-моему, была несколько похуже.
- Тогда время было другое! И, если хочешь - другой общественный строй!
- Ну да! Ты мне прочитай еще курс политэкономии! При чем тут строй? В ваших бабских делах никакой строй не разберется! Ей жалко мамашу беспомощную. А ребенка тебе не жалко? Как вы с ним будете общаться, когда он твоего языка не знает? И научить языку дома ребенка не научат, боясь проявления антипатриотизма. Ребенок ведь есть ребенок: может похвалиться своими приобретенными знаниями в самый неподходящий момент. А в общем, делай, что хочешь!
- Ну и буду! - по-детски заключила Маша, разве что только ножкой не топнула в подтверждение. - Ты только не лезь к нам со своими советами и сомнениями!
- Ну и не полезу! - в тон ей буркнул я.
...Вскоре Патричия вышла на работу, и Маша стала оставаться с Элиной на целый день. К нам домой Элину она приводила редко, стараясь побольше быть с ней в ее квартире: пусть, дескать, ребенок не чувствует чужой обстановки. Как они между собой изъяснялись, одному Богу известно. Маша старалась всегда следить за любым движением Элины, чтобы предугадать ее желание. Элина в большинстве случаев молча играла, разложив на ковре на полу свои многочисленные игрушки, а когда что-то хотела от бабушки, лопотала что-то по-своему. Маша тут же начинала играть с ней в угадалки. Так вдвоем они находили ответ. Правда в начале их общения часто случалось, что Элина замыкалась в себе, хмурилась, а на "приставания" буники швыряла в ту чем попало. Маша при этом всегда удивлялась: что это на ребенка находит? - А то находит, - говорил ей я, - что ребенок устает от постоянного его непонимания тобой, она ведь все время находится в постоянном напряжении. Ей нужна разрядка. Она должна поговорить на своем родном языке, что-то спросить, что-то рассказать, а не слушать постоянно чужую речь. Пусть, например, Патричия почаще звонит домой и с ней разговаривает. Пусть Раду, ее татику, звонит.
- Патричия, та может, а Раду... - Маша при этом хмурилась. - По-моему, он сильно против этой затеи со мной. Когда появляется дома, меня в упор не замечает! Я при этом стараюсь сразу же побыстрей уйти домой. А тут еще среди дня к ним зачастили какие-то родственники. Пытаются говорить со мной по-молдавски, а я, сам понимаешь... Они при этом смотрят на меня, как на врага пролетариата. Потом о чем-то толкуют с Элиной, посматривая при этом хмуро на меня. Противно.
- Ты сама в это дело ввязалась, так что терпи, - я никак не мог придумать более гибкого ответа на ее легкое поскуливание. - Давай я буду брать иногда ее на выходные. Родители с удовольствием отдохнут от нее несколько часов, а мы с ней погуляем, пообщаемся, сходим в цирк или, там, в кукольный театр. Потом придем домой, ты нас покормишь чем-нибудь вкусненьким, чем обычно бабушки потчуют своих внучат... Мне это дитя тоже очень понравилось. Ну, как?
- Согласна. Только ты не очень-то разгоняйся: Патричия собирается скоро отдать ее в садик...
Так мы подружились с Элиной. Мы часто бывали с ней вместе. В разговорах с ней я часть слов произносил по-русски, а потом объяснял ей их смысл. Изображал смысл, как мог. Она все очень быстро схватывала. А когда мы вдвоем приходили с таких прогулок к нам домой, Маша щебетала вокруг Элины, не зная, куда ту усадить. Обязательно испечет какой-либо вкусный пирог или наделает разных мягких сладких булочек и пышных пирожков, выставит на стол всякие варенья-соленья, извлечет из какого-нибудь своего тайника припрятанную от меня сладость и все это предстанет перед Элиной. Я у них - переводчиком. В такой домашней обстановке ребенок чувствовал себя легко и уютно и когда мамика приходила его забирать к себе домой, дитя упорно этого не желало: пряталось с веселым визгом где-нибудь в комнате, а когда его "находили", тут же убегало и пряталось где-то еще. И так - до получаса, пока мамика не начинала строить "строгое" лицо и обещать всяческие неприятности.
Вскоре Элина начала понемногу понимать "бунику Машу", произносила, с трудом выговаривая, некоторые русские слова. Мы с Машей не могли нарадоваться от общения с этим ребенком. Мы оба чувствовали в ней нашу новую внучку, и она вела себя по малости лет своих с нами как со своими бабушкой и дедушкой. С одной стороны Маша, где бы ни гуляла с Элиной, обязательно что-нибудь купит сладенького и сунет ей в ротик. С другой стороны сама Элина, будь я с ней или Маша, всегда требовала, как любой свой ребенок, мол, купи ей то-то или то-то и, если не дай Бог у нас что-то не получалось в этом плане, обижалась, плакала, ругалась, топала ножками и т.п., пытаясь добиться своего. Ее мамика категорически запрещала нам покупать что-либо для нее, Элины, урезонивала свою дочь, как могла, но ни я, ни Маша не могли устоять перед удовольствием сделать что-либо приятное этому нашему маленькому чуду.
Но хорошо долго не бывает. Эту банальную истину мы с Машей постигли в очередной раз. Сначала Патричия потеряла работу в Примэрии. Естественно, что она отказалась от няньки и Элину мы стали видеть только иногда по выходным. Затем пришла новая беда: хозяйка квартиры попросила семью Патричии немедленно съехать. Но не было бы счастья, да несчастье помогло: мы начали чаще в это время общаться с нашей новой внучкой: ее родители вечерами объезжали сдаваемые квартиры, которых к этому времени было хоть пруд пруди. Мы с Машей даже в чем-то позавидовали нашим новым знакомым: когда в свое время мы были молодыми и бесквартирными, подобная ситуация была для нас равносильна катастрофе: сдача казенного жилья в поднаем властью тогда не приветствовалась и потому поиски жилья проходили тайно от власти. А сейчас - пожалуйста. Открывай любую газету, выбирай адрес и - вперед. Дитя нам в этот период подбрасывали каждый вечер и я, возвращаясь с работы, в эти счастливые вечера подвергался со стороны Элины такой бурной радости, что не успевал даже достать из кармана заготовленную по такому случаю какую-нибудь конфетку "от зайчика": дитя с радостным визгом бросалось меня обнимать, крепко прижимало ко мне свое маленькое тельце и чмокало своими почти всегда замазанными бабушкиным вареньем пухленькими губками то в одну, то в другую щеку, заросшую к концу дня небольшой колючей для нее щетиной. В такие минуты я бывал на вершине блаженства, а Маша, стоя в прихожей, счастливыми глазами наблюдала за всем происходящим.
Однажды, когда в очередной вечер Патричия привела к нам Элину, Маша поинтересовалась, мол, как идут дела, какие успехи в поиске квартиры. Беспокоилась, как бы не вышел срок съезда с теперешней квартиры, жестко установленный хозяйкой. У Патричии в ее больших черных глазах появились крупные слезы.
- Ты что это, золотко? - сразу запричитала Маша. - Не волнуйся! Я, прости, глупость сморозила! Не волнуйся, на улице не останетесь: если, не дай Бог, к сроку ничего приличного не найдете, поживете пока у нас. Места хватит. Пропасть не дадим.
- У нас в городе много всяких родственников, - неуверенно проговорила Патричия, стараясь как-то спрятать свою прорвавшуюся наружу слабость, - но... Да потом, откровенно говоря, - не стала она продолжать свою мысль о родственниках, - мы ищем квартиру где-нибудь поблизости от вас. Поэтому и долго. Я уже по этому поводу переругалась с Раду: он никак не хочет жить в вашем районе.
- Да? - Маша, счастливая, схватила в охапку Элину: - Хорошо! Хорошо! Хорошо!
- Хорошо! Хорошо! Хорошо! - вслед за бабушкой повторяла Элина.
Через несколько дней после этого разговора квартира была снята в пяти минутах ходьбы от нашего дома. Пока родители благоустраивались на новом месте, Элина была с нами, но буквально через два дня после новоселья к нам пришла Патричия и говорит:
- Мне подыскали неплохую работу в полиции. Папа постарался. Прошелся по своим старым партийным связям. Правда, бочонок вина мне все же пришлось отвезти его другу. Да кое-что еще в придачу. Но это уже мелочи. А дочку мы отдаем в садик.
- Как? - Маша от неожиданности даже поперхнулась. - То есть, конечно, конечно! Правильно! - тут же поправилась она. - Ребенок должен воспитываться в коллективе... - Но лицо ее полностью выдавало.
- Да вы не волнуйтесь так! - Патричия мягко взяла Машу за руку. - Не волнуйтесь! Я от вас просто так не отстану! - она весело рассмеялась. - Я что-нибудь придумаю...
- Хорошо бы, - жалобно призналась Маша. - Я уже не могу без вас обеих. Во второй раз я такое не переживу...
- Почему во второй? - быстро спросила Патричия.
- Когда девять лет тому назад наша дочь впервые вышла замуж, будучи студенткой второкурсницей, ее избранник, переехав к нам жить из райцентра, решил, видимо, что исполнил свою голубую мечту жить красиво: столица, центр города, большая квартира, машина. Явно, что при таком наборе родители его подруги - люди состоятельные. А посему можно самому не очень напрягаться в отношении работы. Прокормят молодоженов! Полгода мы с ним бились, чтобы перестал целыми днями валяться на диване и шел куда-нибудь трудиться. Сами находили, где ему обрести себя. Это было не так-то просто, как ты понимаешь. Результат один: лежит и лежит. Единственной его заботой было плотно пообедать, густо набриолинить свой монгольского вида ежик да пойти встречать с занятий свою молодую супругу. И так полгода! День за днем! Тут наш бунелу не выдержал да к-а-к тряхнет его! Или - или! Ты же знаешь, он такой же Стрелец, как и ты. Жутко невыдержанный!
- Да он у вас даже очень выдержанный, - перебила Машу Патричия. - Сколько бы Элина его не слушалась, он ей все позволяет.
- Он ее просто любит. Как свою внучку. Потому и прощает ей все. Да, так вот, - продолжала Маша. - Узнал этот тип, что у бунелу дальний ленинградский родственник работает на Крайнем Севере редактором газеты. Ну и давай дочку сбивать с панталыку: мол, поедем на Севера, там ваш родственник большой начальник, пристроит, где потеплей. Деньжищ, мол, заработаем! Нудил, нудил ей и в один прекрасный день наша дочь нам заявляет: - Мы с мужем уезжаем на Север! Ему здесь с вами трудно! - Сколько мы ее ни уговаривали, ни увещевали, что, де, нельзя ей сейчас бросать учебу, что ее муж сам без образования и ее ожидает такая же участь, что он, если бы не лодырничал, то и здесь мог бы зарабатывать и содержать семью, что при этом они могли бы жить отдельно, что... и т.д., и т.п. Все было бесполезно: "Уедем и все!" Я до безумия любила свою дочь! Просто по-звериному! Она у меня - очень поздняя! Когда бунелу пошел провожать их а аэропорт, я осталась дома одна и со мной случилась настоящая истерика! Я так рыдала, так голосила, что на эти звуки сбежались все немногочисленные жильцы нашего небольшого особнячка и никак не могли меня успокоить. Пришлось вызывать "Скорую"! Ты не подумай, Патричия, что я ненормальная какая-то! Но я как-то невольно привязалась накрепко к вам с Элиной! Нет, я не хочу вас связывать ничем: жизнь есть жизнь и вы должны поступать так, как вам нужно, как следует. Никаких подобных истерик с моей стороны, конечно, не будет. А горечь расставания... Мы же взрослые люди... Перетерпим...
- Ну, ну, не волнуйтесь вы так! - Патричия опять погладила Машу по руке. - Я все-таки что-нибудь придумаю в этом плане. Все устроится...
Прошло около месяца. За это время с Элиной не было никаких связей. Ее родители нам не звонили, а мы считали неудобным их беспокоить. Все эти дни Маша не переставала вспоминать Элину, рассказывала мне про всякие смешные и грустные истории, которые случались раньше между ними. Иногда молчит, молчит и вдруг: - А вот Элина сейчас бы нахмурилась и сказала бы: "Буника!.." Грустила моя Маша. Грустила, хотя делала вид, что все происшедшее ее просто не касается никоим образом. В такие минуты я больше молчал: старался не поддерживать разговор. К чему бередить то, что бередить не следует! Но однажды вечером раздался звонок. Время было довольно позднее, но мы еще не спали: заканчивалась пятница и можно было выспаться в наступающую субботу. Маша, хотя и не ходила ни на какую работу, но ежедневно вставала вместе со мной в шесть утра, готовила мне завтрак и отправляла на работу. Так что укладывались мы спать в будние дни всегда довольно рано. А по пятницам мы позволяли себе небольшую вольность лечь попозже. Звонила Патричия.
- Мария Федоровна! Мария Федоровна! - радостно позвала она.
- Да, да! Я слушаю тебя, Патричия! - почти закричала в ответ Маша, - я слушаю! Слушаю! - При этом она даже вскочила на ноги, хотя трубку сняла лениво, сидя в мягком кресле. Как она, бедненькая, ожидала этого звонка! Как страдала без обеих своих девочек!
- Патричия!
- Мария Федоровна! Мы с Элиной вас завтра приглашаем в гости! С утра! Когда захотите! Раду целый день не будет. Мы с вами устроим девичник! Хорошо?
- Хорошо, хорошо! Милые вы мои! - глаза Маши были полны невообразимого счастья. - Хорошо! Только скажи мне свой адрес и телефон!
Патричия назвала.
- Завтра я вам с утра перезвоню и договоримся! - Маша в непередаваемом возбуждении продолжала кричать в трубку. - Как вы там? Как устроились?
- Все в порядке, - отвечала Патричия. - Вот завтра придете и мы все вам расскажем. Ну, пока? - спросила она.
- Пока, до завтра. - Маша неохотно повесила трубку.
- Вот видишь, не забыли! - обратилась она ко мне. - Не забыли! - она походила на радостного взъерошенного маленького воробушка. - Не забыли, мои сладенькие девочки! Не забыли! Я ведь говорила тебе! Я...
- Ладно, ладно! - перебил я радостную тираду. - Я сам рад за тебя и твоих девочек. И слава Богу, что ты их так любишь. Слава Богу, что нашлись здесь те, которым ты можешь отдать свою нерастраченную привязанность.
Назавтра Маша ушла в гости часов в одиннадцать, а заявилась домой часа в четыре дня. Видно, что погуляли "девочки". Явилась веселенькая, видно было, что под небольшим хмельком. В руках держала полнющие большие белые пластиковые пакеты.
- Ну что, - засмеялся я, встретив ее и забирая тяжелую ношу из ее маленьких рук. - Будем петь "Шумел камыш, деревья гнулись"? В магазине что ли побывала по дороге?
- Это мне девочки надарили, - с трудом снимая пальто, гордо сообщила Маша. - Элина как повисла у меня на шее - не могу оторвать! Не хотела отпускать! А Патричия, так та натолкала вон всяких продуктов в пакеты! И обе проводили меня почти до нашего лифта! Вот!
- Молодцы! - порадовался я за Машу. - Я смотрю, что и по рюмочке на радостях пропустили?
- А как же! Раду привез из села домашнего вина. Такой вкус! Такой аромат! Элину за уши не могли оттащить от этого вина! "Я тоже, - кричит, - хочу вместе с вами! Это мой татику привез!"
- По-русски кричала или по-своему?
- По-русски, в том-то и дело!
- Ничего себе научила ребенка! Откуда она слова-то такие знает?
- Вот, как видишь, знает! Она все схватывает налету. Мамика ей что-то по-молдавски выговаривает, а эта схватила меня за руку (защиту нашла!) и лупит ей ответы по-русски! Правда, слова еще коверкает.
-Жаль, дальше тебе не суждено ее учить.
- Да как сказать, как сказать! - Маша прошла на кухню и присела за стол. - Фу-у-у! Ну и жара! Ну и устала! Кстати об учебе. Она уже вот как две недели ходит в садик. Вот тут через дорогу от нас. Через два дома.
- Красота! Совсем рядом! Когда сильно соскучишься, сможешь навещать.
- Вот-вот! Во-первых, Патричия меня попросила, чтобы я подошла в этот садик и посмотрела бы там, что да как.
- А откуда она знает, что ты у нас "маре специалист" по садикам?
- Как откуда? Я ей раньше рассказывала про то, как работала заведующей в садиках на Старой Почте и в Центре.
- Ну, ты все всем всегда вытрепываешь! Разве так можно?
- А что тут секретного? Что секретного-то?
- Секретного - ничего, но и биографию свою каждому встречному-поперечному не стоит выкладывать!
- Ты всю жизнь был такой подозрительный! В общем, короче: я должна буду сходить в этот садик, посмотреть, как девочка там устроена, какие воспитатели и т.д. Это тебе не интересно. Потом, похоже, придется ее после обеда иногда забирать к нам домой.
- Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Зачем же тогда надо было в садик отдавать ребенка?
- Не поверишь, но дело в том, что она целиком и полностью пошла в своего татику. А тот, оказывается, в любом садике никак не мог прижиться. Мало того, что бесконечно рыдал, но и послеобеденный сон ему никак не удавался! Что ни предпринимали бедные его воспитатели, но уложить его в постель было невозможно! Никак! Так и ходил в садик: до обеда еще кое-как с детками играет, а после обеда - хоть убей! Все спят, а этот сидит где-нибудь в углу и терпеливо ждет, когда сон закончится! Так за все время ни одного дня и не спал! Ни-ког-да! И Элину за эти две недели, пока она ходит в садик, ни разу не смогли уложить в постель после обеда. Вот это наследство!
- А что Раду говорит по этому поводу?
- А что ему! Смеется и разводит руками. - Этот крест, - говорит, - придется нести!
- Чудеса! Тогда, конечно, сходи в садик. Поговори с воспитателями. Может, удастся эту козерожку уговорить ложиться спать...
- Я постараюсь, но вряд ли...
Маша действительно пошла в садик в понедельник. Садик был, естественно, молдавский и все, что было вывешено на стенах группы, в которую ходила Элина, все советы родителям, расписания, методики и прочее Маша прочитать не смогла. Воспитательница и нянечка, обе молоденькие девушки, сначала никак не восприняли русскую бабульку и подумали, что та забрела к ним по ошибке. Но вскоре почувствовали твердую хватку бывшего детсадовского работника и даже немного оробели. Маша, увлекшись, начала с ними разбирать, говоря казенным языком, структуру работы, показывая одновременно, где и чего, по ее мнению надо бы добавить, что где изменить и...пошло-поехало! Родная стихия! Девчонки показали ей группу, игрушки, пособия, даже туалетную комнату. Детвора гурьбой шумно ходила за взрослыми. Все, кроме Элины. А та, гордая, стояла у окна, в стороне от всей процессии и молча наблюдала за всем происходящим.
Но это было только началом для Маши. Кому-то из "девочек", то ли Элине, то ли ее мамике такая активность буники пришлась сильно по душе и вот уже Маше пришлось с утра отводить Элину в садик, решать там все родительские проблемы в отношении ребенка, ну и, конечно... забирать ее после обеда домой! Спать-то мы никак не можем среди дня! Ни за какие коврижки раздосадованные воспитатели не могли уложить ребенка в кроватку. Ничего не выходило! Она тут же молча вставала, молча брала в группе стульчик, шла с ним в раздевалку, ставила стульчик возле своего шкафчика, на котором был нарисован забавный беленький ослик, и со вздохом усаживалась на стульчик лицом ко входу. Ждала свою бунику Машу. Ждала терпеливо. Как преданная собачка ждет своего хозяина. И ничто, никакие всякие-разные силы не могли поколебать ее твердого решения дождаться свою бабушку. Она непоколебимо верила, что буника обязательно, обязательно, несмотря ни на что придет и заберет ее отсюда. Иногда бывало так, что в виде наказания Патричия буквально приказывала Маше не забирать ребенка после обеда. Пускай, мол, не капризничает и ведет себя, как все дети. В такие черные дни ребенок сидел на стульчике в раздевалке и сиротливо глядел на входную дверь ровно до тех пор, пока не кончалось время сна и любопытная детвора, кое-как полуодетая, кто в одном сандалике, кто - при одной надетой штанине, кто - вообще весь в соплях и босиком, вся эта детвора шумно не высыпала в раздевалку, окружая любопытным галдящим кольцом почему-то совсем непохожее на них существо. Тогда Элина молча вставала, забирала свой стульчик и уходила в группу, ни с кем не общаясь, совсем по-взрослому. Потом там, в группе, подходила к огромному, почти до самого потолка окну, выходящему на дорогу, ведущую в садик и тоскливо глядела из него на пустое пространство двора, отделенное от дороги редким зеленым штакетником. После такого события на следующее утро, когда Маша отводила ее в группу, она жалобно глядела на Машу и с выступающими на глазах крупными слезами вопрошала: "Буника, ты правда заберешь меня после обеда? Ты сегодня не забудешь?" В такие минуты Маша чувствовала себя очень гадко. Она не могла объяснить малышке, что сама мамика запретила ее брать после обеда. Не хватало духу. Маша молча гладила ребенка по ее густым ершистым волосам, молча подталкивала ее под спинку в группу, избегая больших черных всепонимающих детских глаз. В один из таких дней, когда Элина должна была досиживать на стульчике в раздевалке до вечера, Маша, ярко представив себе всю эту картину, как в омут, бросилась в садик забирать малышку.
Прибежав в группу, увидела, что дети еще не садились за столики на обед. Вид у Маши, видимо, был соответствующий, так что воспитательницы, завидев ее на пороге, побросали свои дела и почти хором спросили:
- Что-то случилось? На вас лица нет!
- Ничего, ничего! - шепотом ответила Маша. - Ничего не случилось. Я заберу сегодня Элину после обеда.
- Конечно, - понимающе согласилась нянечка, - иначе она опять весь сон станет сидеть на стульчике в раздевалке возле своего шкафчика с белым слоником. Я сама с трудом выношу это грустное зрелище.
- Я заберу, заберу! - повторила Маша, - а ее мамике позвоню, чтобы она зашла за ней к нам после работы. Я не могу спокойно находиться дома, чувствуя, что ребенок только и делает, что ждет меня.
... Так и пошло: утром Маша отводит Элину в садик, после обеда - забирает. Патричия, было, попыталась воспрепятствовать этому порядку, но Маша твердо стояла на своем: я сама ее дома накормлю, спать уложу, проведу сама с ней какие надо занятия, а если понадобится, то бунелу поиграет нам на своем аккордеоне, а мы потанцуем. Нечего истязать ребенка только за то, что он такой вот уродился! Не надо ломать его через колено! Это потом ей и всем вам выйдет боком! Патричия, в конце концов, махнула на все это рукой: делайте, как считаете нужным.
Так пролетели три года... Много чего случилось за это время. Элина научилась вполне сносно говорить по-русски, несмотря на то, что каждое лето проводила у своей родной бабушки. После каждой такой поездки встречаясь с Машей, она дичилась, многие русские слова были ею забыты, она подозрительно глядела на бунику Машу и всегда задавала один и тот же вопрос: "Буника, а ты моя бабушка или чужая? Правда, ведь ты моя самая бабушка?"
- Твоя, золотко мое маленькое, только твоя! Чья же еще? - Маша при этом крепко прижимала ее к себе и горячо целовала ее в пухленькие щечки. - Только твоя!
Маша чувствовала, точнее - знала, что все эти годы вся без исключения родня Патричии в открытую не одобряла "русификацию" Элины. И конечно же Элине разъясняли истинное положение вещей. И не единожды. Но она своей маленькой детской душой была исполнена такой огромной детской любви к "бунике Маше", что все объяснения, уговоры, наговоры, разговоры своих прямых родственников всерьез не воспринимала. Не проходило и недели, как она восстанавливала свой русский лексикон и в самое неподходящее для родителей время, когда у тех в гостях находилась какая-нибудь шумная компания, выдавала им на чистейшем русском с бабушкиным московским акцентом нечто вроде такого: - Смотрю я, достукаетесь вы! Сожжете квартиру! - Тут наступал полнейший конфуз.
Родная бабушка Элины, кажется, начала понемногу признавать наличие Маши в жизни ее внучки. В начале, бывало, когда она приезжала в гости к своим в Кишинев и Маша, у которой всегда имелись ключи от квартиры Патричии, заходила туда по разным делам, поручаемым ей Патричией, не ведая, что буника Галя - так звала свою настоящую бабушку Элина - где-то здесь, в городе, она часто сталкивалась с ней, что говорится "нос к носу". Холодное высокомерие и явное, нескрываемое недоброжелательство сквозило во всем поведении буники Гали. В таких случаях Маша немедленно бросала все дела и пулей мчалась домой, не понимая, "за что такая ненависть". Случалось, что Маша приводила Элину откуда-нибудь, а буника Галя находилась в это время с Патричией дома. На обычное Машино "здрасьте" буника Галя молча демонстративно уходила в другую комнату. "Ревнует, не обращайте внимания, - успокаивала Машу Патричия, - привыкнет".
Раду, который прежде тоже никогда почти не замечал Машу и, приходя с работы, когда Маша находилась еще у них дома, что-то буркал ей и начинал по-своему болтать с Патричией и дочкой, как будто вместо чужой тетки в квартире стоял некий чурбан, теперь тоже подобрел. Начал иногда с Машей заговаривать и несколько раз даже подвозил ее на своем авто к нашему дому. И совсем уже неожиданный с точки зрения Маши поступок с его стороны: сам, по своей инициативе привез нам по мешку муки и сахара, сам все это, что называется пёр с восьмого к нам на девятый этаж! Признал. Надо сказать, что Патричия и Раду - хорошие ребята и мне они нравились. Мне думается, обстановка в наших краях вынуждала их вести себя, как сейчас модно говорить, неадекватно.
Патричия часто поддавалась унынию, сетуя на недостаточность средств к существованию. Они с Раду пытались кое-что из своих доходов откладывать на покупку квартиры, но из их затеи почти ничего не получалось: все деньги практически съедали бесконечные кумэтрии, свадьбы, дни рождения, устраиваемые их многочисленными родственниками и друзьями. - Я не могу отказаться! - чуть не плача, отвечала Патричия на вопросительный взгляд Маши, оставляя ей Элину. - У нас такие обычаи! Попробуй не приди! От тебя все отвернутся!
- Да, но... - начинала Маша...
- Нет, нет, нет! - тут же перебивала ее Патричия, - ничто не признается! Никакие доводы!
- Да нельзя же быть рабами своих обычаев! Мало ли какие обстоятельства могут становиться на пути! Тебе же завтра есть нечего будет! Мы же цивилизованные люди!
- Ах, Мария Федоровна! - отмахивалась Патричия, - не знаете вы нашу жизнь! Как-нибудь выкрутимся!
На том диалог и заканчивался. И всякий раз после этого Маша вновь и вновь вспоминала своего университетского преподавателя по истории Молдавии, который из всей истории, как ей казалось, рассказывал только о свадьбах да кумэтриях, о похоронах да поминках. - Возможно, - думала Маша, - я действительно чего-то не понимаю Пусть живут, как им хочется! Отчего я всегда лезу не в свое дело!
Но денег все-таки у Патричии катастрофически не хватало. И она, глядя на то, как многие ее знакомые женщины уезжают на заработки в другие страны, либо отправляют туда своих мужей, узнавая, что "оттуда" привозят неплохие "бабки", принялась оказывать давление на Раду, чтобы тот что-либо предпринимал в этом направлении. Раду и слышать об этом не желал, отбивался, как мог. И был Патричией наказываем за это. Часто приходя к ним ранним утром, когда и Патричия, и Раду уже одной ногой стояли на пороге, а Элина еще сладко спала, Маша обнаруживала, что "татику провел ночь в салуне", как говорила малышка. И действительно, ребенок, желая как-то освободиться от своих тягостных для него детских тревог, всегда в таких случаях, поднимаясь с постели под ласковые бабушкины приговаривания и поглаживания, обнимал ручонками бунику за шею, утыкался носиком в ее мягкую и теплую грудь и сам выдавал все семейные секреты:
- Мамика вчера опять сильно ругалась с татику и прогнала его спать в салун на пол. Она хочет, чтобы он уехал куда-то, а он отказывается. И я не хочу, чтобы татику уезжал. - Потом после короткой паузы всегда добавляла: - Я татику больше люблю, чем мамику.
- Не обращай внимания, - гладила ее по головке Маша. - Взрослые иногда ссорятся. Но мамика и татику тебя очень любят.
- Мне татику жалко, - начинала кукситься Элина, - он хороший.
- Дети в дела взрослых вмешиваться не должны! - в Маше сразу прорезался учительский тон. - Давай одеваться!
Сама Маша в такие минуты чувствовала себя противнее некуда. Когда дело касалось детей, своих ли, чужих ли, когда кто-то наносил им обиду или еще только пытался это сделать, она, не рассуждая, всегда становилась на их защиту. Бывало, у нас дома, когда наша дочь, а впоследствии и внучка, движимые своими детскими эгоистическими интересами обижали ее саму и я, пытаясь ее защитить, едва только делал какое-либо движение, которое, по ее мнению, угрожало бы ребенку, она, как разъяренная птица, выбрасывала в стороны руки-крылья и прикрывала собою ребенка, начиная яростно кричать на меня, а чаще - плакать, утверждая, что это - дети, и что они ни в чем не виноваты. И переубедить ее в противном было просто невозможно. Она не понимала, как это можно тронуть ребенка. Да она и по жизни-то очень наивна. Наивна по-детски. Однажды ей позвонила ее подружка, с которой они вместе работали в школе.
- Собирайся, - кричит в трубку взволнованно, - всех приглашают в городской школьный профсоюз. Весьма срочно. Сказали, что будут давать нам, пенсионерам-учителям какую-то продуктовую помощь. Как раз вовремя! Я так и не знаю, чем своих кормить. Хоть иди да шарь по помойкам. Идешь?
- Конечно, конечно! - тут же засуетилась Маша, - когда?
- Завтра к двенадцати. Да не забудь, сказали, взять паспорт.
- Зачем же паспорт?
- Как зачем? Проверят, что это действительно ты, распишешься в получении. Во всем должен быть порядок.
На следующий день, несмотря на очень ненастную погоду, эти две бабульки потопали за дармовыми продуктами в свой профсоюз, бесконечно радуясь: мол, помнят у нас еще старые кадры, не забывают. Приятно, мол, да и голод - не тетка. Маша появлялась дома только к вечеру. Усталая и растерянная.
- В чем дело? - спрашиваю, - почему так долго? Давали концерт в вашу честь? А что ты - с пустыми руками? Обокрали по дороге?
- Какой там обокрали! Хотя...можно и так выразиться, - снимая с себя пальто, выдавила она.
- Ну-ка рассказывай, - помогая ей освободиться от верхней одежды, - попросил я. - Рассказывай.
- А что тут рассказывать? Пришли мы с Ноннкой туда. Народищу!.. Полный зал. Да еще толпа на улице. Потом стали нас вызывать по одной, записывать данные наших паспортов и заставлять расписываться.
- И продукты сразу давали?
- Да какие продукты! - зло воскликнула Маша, - Какие продукты! Сказали, ждите, мол, на улице: продукты подвезут, когда всех запишем. Чтобы, де, толкотни никакой не было. Запишем, мол, а потом всем сразу - продукты. И по домам.
- Ну? - ждал я продолжения, как уже сам догадался, знакомого мероприятия под названием "кидаловка". - Потом машина с продуктами где-то по дороге застряла? Таможня задержала?
- А ты откуда знаешь? - вытаращила на меня свои зеленые глаза Маша, - звонил? Откуда?
- От верблюда! - расхохотался я. - От него, горбатого. Кинули вас, глупых старушек, как распоследних дур!
- Во что кинули? - не поняла Маша широко распространенного в наше лихое время от правительственных верхов до тюремных закоулков блатного жаргона. - Во что это нас кинули?
- В самое, самое дерьмо! В него вас миленьких и кинули. Вас держат за обыкновенное электоральное быдло!
- За какое еще элек... - это слово ей было неведомо, ибо она отправилась на пенсию еще до его возникновения. Она на нем основательно запнулась.
- Да ты телевизор-то не смотришь! Все плюешься! Мол, гонят одну рекламу да порнографию. Ну и вот результат. А газет-то мы не читаем, ибо не по карману они пенсионерам. А на дворе-то давно уже избирательная кампания. И ты у нас - самый что ни на есть электорат, то бишь избиратель по-нашему.
- Ну и что?
- А то! Какому-то деятелю срочно понадобились подписные листы, заполненные, якобы, преданными ему избирателями. Вами, то есть, глупыми. Вами, которые ждут и никак не дождутся, как бы поскорее отдать за него, родимого, свои, пусть и кряхтящие, но все же государственные голоса. Ему эти голоса ваши профдеятели с вашей же помощью и сообразили. Теперь он понесет списки с вашими фамилиями в избирательную комиссию и будет там зарегистрирован как кандидат в депутаты. А там...
- Не может быть! - Маша от негодования стала пунцовой. - Да это же... подсудное дело!
- А судьи кто? - продекламировал я, дурачась, дедушку Грибоедова. - Ты за них не волнуйся: там все путем.
- Вот мерзавцы! Вот подлецы! - весь вечер только и повторяла, никак не успокаиваясь, раздосадованная Маша. - Надо же до чего мы докатились!
Вот такая она, моя жена Маша!
В один из дней, когда Маша, забрав Элину после обеда из садика, укладывала ее спать, в дверь позвонили. Элина пулей сорвалась с постели, пользуясь таким благоприятным случаем, чтобы избежать так ненавистного ей послеобеденного сна. Босая подбежала к входной двери и, не давая Маше даже рта раскрыть, быстро спросила по-своему: - Кто?
За дверью что-то ответили. Маша не поняла, но Элина радостно завизжала: - Моя бабушка приехала! Буника Галя!
Маша открыла дверь. На пороге, обвешанная сумками с головы до пят, стояла усталая и растрепанная буника Галя. Маша молча посторонилась и буника Галя, кряхтя, перетащила свою многочисленную поклажу через порог. Элина с криками "Ура!" тут же повисла у нее на шее. Маша едва успела подставить стул, иначе бы буника Галя оказалась на полу от такого радостного натиска. Наступила продолжительная пауза. Элина перебралась на колени к бунике Гале. Обе бабушки молчали. Маша начала собираться к себе домой.
- Погодите, - вдруг хрипло выдавила из себя буника Галя, снимая Элину с колен и поднимаясь со стула. Она стояла среди валявшихся вокруг нее сумок крупная, ширококостная, еще не старая, но уже далеко не молодая, и было видно, что сильно и немало побитая жизнью женщина, и на лице ее, кроме невыносимого нечеловеческого страдания, ничего нельзя было разобрать.
- Погодите, - повторила она Маше севшим голосом. - Я всегда была неправа в отношении вас... Слишком неправа... Много лет... Я вижу, что вы... любите... Элину... Любите... Патричию... Вы здесь... - не ради денег...То есть не только ради них, - быстро поправилась она. - Мне Патричия говорит, что вас сам Бог послал нам такую... Я... я... с ней согласна...
Она вдруг разрыдалась и кинулась обнимать Машу: - Не оставляйте их одних... Не оставляйте, Богом молю! Мы все на Вас надеемся! - горячо шептала она Маше, - мы все надеемся...
Маша от неожиданности потеряла дар речи. Потом, немного опомнившись, мягко высвободилась от почти судорожных объятий не на шутку разволновавшейся буники Гали и прямо глядя той в глаза, недоуменно спросила:
- А что, собственно, произошло? Успокойтесь, пожалуйста! Никого я никуда не бросаю. Что случилось, Галина Владимировна? Да успокойтесь же вы! - Маша быстро подала все еще сотрясающейся от крупных всхлипов бунике Гале первое попавшееся под руку полотенце. Тут Элина, глядя недоуменно на всю эту картину, принялась вовсю громко реветь. Маша потянула ее за руку к себе, прижала ее головку к своему подолу и почему-то изменившимся голосом медленно произнесла в пространство:
- Ну вот... Сейчас и я зареву...
И действительно: две крупные слезы уже готовы были выкатиться наружу из ее сильно повлажневших добрых глаз.
- Все, все, все! Все детки давно успокоились! Все детки давно перестали плакать! - строгим садиковым тоном громко произнесла фразу Маша. - Вон любопытные синички заглядывают в окошко! А мы им покажем, что всем деткам - весело! ... Так что же случилось, Галина Владимировна? - после небольшой паузы переспросила Маша бунику Галю.
Элина перестала реветь и держалась за машин подол. Уставилась, не мигая, на бунику Галю.
- Так! Золотко, пожалуйста, беги в свою комнату, возьми попугайчика и с ним - быстро в постель! Он уже давно зевает и ждет, когда ты его уложишь спать, - Маша подтолкнула Элину к входу в ее комнату. - Давай, давай! Дети не должны присутствовать при разговоре взрослых! Давай беги, моя умница!
Элина, нехотя, молча поплелась к себе. Буника Галя, наконец, успокоившись, начала снимать с себя верхнюю одежду. Потом так же молча задвинула в первый попавшийся угол все свои сумки и присела, вздохнув, на тот же стул здесь, у двери. Маша вопросительно глядела на нее.
- Уезжаю я сегодня вечером, - наконец проговорила тихо буника Галя. - Далеко и надолго...
Маша молчала.
- В Италию... Работать...
- Да вы что? - Маша чуть не подскочила от такого сообщения. - В вашем-то возрасте! Вы что? Патричия вон Раду, здорового молодого мужика, никак не может заставить, а вам-то каково будет на чужбине? А мужа своего как вы оставите одного?
- А! - отмахнулась досадливо буника Галя. - Ничего с ним не станется! Пусть сам поживет! Он в свое время очень сильно нагулялся. Вот пусть теперь отдохнет. К тому же мы на наши пенсии не протянем долго. А Патричия, сами видите, без квартиры. До сих пор. Я ведь медсестра. Может, и сгожусь там.
- Да как же вы едете-то? Наверно, без визы? А язык?
- Как-нибудь... Бог в беде не оставит... Пока оформили, что я еду на какой-то там симпозиум, а потом я уже не вернусь...Там наших молдаван много, обещали помочь устроиться.
- Не знаю, не знаю, - Маша недоверчиво и как-то по-новому смотрела на бунику Галю. - У нас вон соседка по подъезду тоже была в Италии. Полтора года. Все это время, говорит, спали по шесть человек в ванной у хозяина. Но она - молодая! Чуть больше тридцати!
- Как Бог даст! - вздохнула буника Галя. - Выхода у нас - никакого. Вы уж тут приглядите, пожалуйста, за моими девочками. Одни ведь остаются. Может, заработаю им на квартиру...
Она позвонила только через месяц. Наконец-то ей удалось устроиться в одном маленьком городишке на юге Италии. Взяли ее сиделкой к парализованной старухе, которая, имея двух дочерей, одна живет в своем доме. Дочери и наняли сиделку за восемьсот долларов в месяц. Патричия не скрывала своей радости: ей самой за такие деньги надо здесь работать полтора года. От сообщения тещи стало хуже Раду: приходя к ним домой, Маша все чаще и чаще обнаруживала, что очередную ночь оно провел на полу "в салуне".
... Прошел еще год. Элина пошла в школу. Маше пришлось осваивать новые функции: подготовку домашних заданий с вновь испеченной школьницей. Хотя дело это было для Маши не новое - последнее время в школе она работала на "продленке" и потому в совершенстве владела всеми тонкостями этого, можно сказать, искусства, - но все осложнялось тем, что она не знала языка, а Элина не всегда могла все правильно перевести из учебника. Элина нервничала и часто начинала реветь: мамика запрещала ей звонить к себе на работу и что-либо спрашивать, а попробуй принеси домой по любому предмету оценку меньше десятки, получишь такой нагоняй... В подобных ситуациях Маша начинала названивать мне, сидевшему уже в ту пору дома. Я разбирался в элининых проблемах и все оставались довольны. Рев прекращался. Вскоре Элина сама, без Маши, бойко названивала мне, и мы вместе с ней к обоюдному нашему удовольствию выполняли школьные задания. Эта идиллия иногда заканчивалась наказанием Элины, когда та случайно проговаривалась обо всем своей мамике. Патричия категорически запрещала ребенку прибегать к чьей-либо помощи в школьных делах. Мы с Машей этого никак не понимали, но Патричия на этот счет не принимала ни малейшего совета: в такие моменты она просто деревянела, глаза ее становились холодными и злыми, и ответ бывал всегда одинаков: "Это - мои проблемы". Не суйтесь, де, не в свое дело. В такие минуты нам было очень больно, но мы ей не перечили: ребенок все-таки не наш, хотя в душе мы так не считали. Особенно страдала Маша и я, видя ее страдания, яростно вспыхивал и порывался пропесочить эту мамику, на что Маша, зная мою несдержанность, буквально висла на мне и уводила куда-нибудь подальше от греха. А когда я немного успокаивался, начинала выговаривать мне и, в конце концов, всегда защищала Патричию. Удивительно! Вроде бы сама только что возмущалась, а попробуй я вмешаться в это дело, она тут же становилась на сторону Патричии. Да так яростно, будто я - злодей какой! Я чувствовал, что Маша в душе осуждает Патричию, но я... я даже не моги ничего худого и подумать при ней про ее девочку!
Но я все же нашел выход. Начал сам звонить Элине: не нужна, мол, помощь? В ответ ребенок меня отчитывал строгим голосом: мамика же, де, не разрешает, чтобы ты помогал!
- А я и не помогаю. Я знаю, что ты математику еще не сделала, - врал я.
- Откуда ты знаешь? - удивлялась Элина, - тебе буника звонила?
- Да нет. Я - телепат. Я сам все вижу.
- Что это "телепат"? - не понимала Элина.
- А это такие дедушки, которые все видят, что делают их внучки. Вот я, например, вижу, что у тебя сейчас проблемы с математикой. Только точно не могу рассмотреть, какие. Отсюда видно плоховато.
Удивленная Элина тут же начинала мне все, что я "не видел", уточнять и таким образом мы с ней справлялись с заданиями. Маша, хоть и не понимала, о чем мы с Элиной болтали, но догадывалась, и дома меня ожидал нешуточный нагоняй.
Буника Галя за этот год несколько раз передавала по случаю подарки для Элины: разные сладости, кое-что из одежды. Ребенок сиял. Если приходили сладости, Элина тут же набирала их, сколько могла, и старательно рассовывала Маше по карманам:
- Это, - говорит, - тебе, а это - бунелу, - то есть мне.
- А как же, - как-то спросила Маша Патричию, - как живет твой отец? Ведь уже год, как он один. Он же болен, ты говорила?
- Мама ему звонит иногда оттуда. Говорит нам, что стонет он все, когда она ему звонит. Иногда плачет в трубку и умоляет, чтобы вернулась домой. Мол, очень плох он. Собирается помирать.
- Ну а мама?
- Она ему отвечает, чтоб не морочил ей голову. Что пока есть такая работа, она будет там. А с ним, мол, ничего не станется. Да и что они вдвоем тут будут делать со своими никакими пенсиями?- заключила Патричия. - Голодать?
- Но отец же все-таки один остался. И больной. За ним уход нужен...
- Ничего с ним не сделается! - раздраженно оборвала Патричия Машу. - Мы к нему с Раду ездим почти каждую неделю! Я вот и в больницу его клала здесь, в Кишиневе. Немного подлечили его сердце. Все-таки мама в Италии такие деньги зарабатывает!
- Да всех денег не заработаешь, Патричия! - Маша пыталась ее как-то переубедить. Но бесполезно.
- Я сама ищу возможность, чтобы вырваться отсюда за границу! - повышала тон Патричия, - живем, как бомжи!
- Дело ваше, - замолкала Маша.
Но все-таки, все-таки... Все-таки отец Патричии умер. В один из дней Маша с Элиной делали уроки. Элина только-только пришла из школы, Маша быстренько помогла ей раздеться и усадила сразу же за стол обедать. Элина сказала, что сегодня очень много задали на дом и потому, съев на редкость быстро свой обед, она тут же уселась за письменный стол делать уроки. Маша, перемыв всю посуду, пришла к Элине в комнату и присела около стола: Элина любила делать уроки, когда буника сидела рядом. Когда Элине что-либо не удавалось с уроками, она залезала тут же к Маше на колени, обнимала ее своими горячими ручками и тыкалась носиком ей в грудь.
- Куда ты! - якобы сердилась Маша. - Гляди, ты уже почти с меня вымахала, а все - на колени! - Она понимала, что ребенок ищет у нее защиты, что ему в эти минуты нужна помощь.
В этот день как раз Элина и забралась сразу на колени к Маше. Вдруг неожиданно в их металлическую дверь начали чем-то сильно колотить да так, что обе, Маша и Элина, просто впали в столбняк. Маша перепугалась до икоты, а Элина, тоже с перепугу, начала громко реветь. Маша, наконец, немного придя в себя, нетвердой походкой подошла к двери, ходуном ходившей от непрекращающегося грохота и, открыв непослушными руками первую, неметаллическую дверь, севшим от страха голосом спросила:
- Кто там?
- Это - я, я! Патричия! - послышался резкий незнакомый крик. - Открывайте скорее!
- Маша дрожащими руками никак не могла отодвинуть в сторону две тугие защелки замка: силы совсем ее покинули.
- Да открывайте же скорей! - в истерике прокричали с той стороны двери, - открывайте! Папа мой... Папа мой...умер! Открывайте же! - Маша услышала, как Патричия там, за дверью, разрыдалась.
Маша все возилась и возилась с замком, в котором где-то что-то заклинило. А может, это заклинило в ней самой. Дверь никак не открывалась... Но вдруг защелки сами прыгнули в сторону, будто кто-то посторонний их мигом отодвинул, и дверь распахнулась. На пороге стояла вся зареванная и с почти безумным взглядом Патричия. В руке, как пику, она держала длинный шкворень - ключ от их замка.
- Папа мой умер, - обессилено произнесла слабым голосом Патричия и опустилась на пол тут же в проеме двери...
Мать, буника Галя, на похороны мужа не приехала: она была на нелегальном положении и уже бы не смогла обратно вернуться. А работу бросать она не желала. Тем более, что парализованная старушка, за которой она ухаживала, оказалась на редкость живучей и в обозримом будущем отходить в мир иной ничуть не собиралась. Доллары с нее капали и капали, смывая с души буники Гали последние угрызения совести...
Надоело спать "в салуне" на полу Раду. В один из дней он, обычно поздно приходивший с работы, неожиданно появился дома днем. Собрав быстро в небольшую дорожную сумку какие-то вещи, вытащил из бокового кармана потертой кожаной куртки, в которой он разве что не спал, небольшую пачку денег и протянул ее ничего не подозревавшей Маше:
- Передайте Патричии. Я уезжаю.
Маша, приученная не задавать лишних вопросов, молча взяла деньги и положила их на телевизор. Раду прошел в комнату Элины, делавшей в это время уроки, поцеловал ее и... ушел. Как оказалось, ушел насовсем. Навсегда. Уехал-таки за границу, как мечтала об этом Патричия. Уехал подальше от всего, что было ему так дорого. Уехал, чтобы никогда больше к этому не возвратиться...
Спустя почти полмесяца после этого события ранним субботним утром, когда мы еще спали, у нас дома раздался телефонный звонок. Звонила Патричия.
- Что случилось, золотко? - сонным голосом спросила Маша. - Что-нибудь произошло?
- Произошло, - дрожащим голосом нервно ответила Патричия. - Мы с Элиной сейчас придем к вам.
- Хорошо, я жду. - Маша положила трубку и сразу кинулась одеваться. - Что-то там с девочками моими случилось, что-то случилось... - Маша никак не могла попасть в рукав халата: ее колотила мелкая дрожь. - Что-то случилось с моими девочками...
- Успокойся ты, - попробовал заговорить я, но она меня уже не слушала...
Я тоже подхватился с постели и начал одеваться. Что же там такого произошло?
- Что-то там с девочками моими случилось, что-то случилось, - как заведенная, повторяла Маша. - Я всегда это чувствую...
Девочки позвонили в дверь минут через двадцать. Открыв дверь, мы оба обомлели: Патричия стояла перед нами, одетая по-дорожному. В руках у нее были две огромные дорожные сумки, доотказа набитые вещами. Чуть поменьше этих, у нее через плечо висела третья. Вид у Патричии был совершенно отрешенный. Позади нее, вся зареванная, стояла Элина. За плечами у нее был красный школьный ранец. Одной рукой она прижимала к себе их пушистую серую кошку Дону, а в другой у нее была давно заигранная, без одной руки кукла Барби. Мы с Машей молча посторонились, давая войти в квартиру этой странной утренней процессии. Патричия с тудом втащила в прихожую свои здоровенные сумки и, глядя мимо нас, молча уселась на одну из них. Элина вошла следом за матерью, не выпуская ничего из рук, встала возле Патричии. Маша медленно обогнула обеих и закрыла за ними дверь. Вернулась на прежнее место, где стоял и я, пригвожденный всем происходящим.
- Ну, - наконец нарушила паузу Маша, - что случилось? Уезжаете?
- Я уезжаю, - повернулась к ней Патричия. - Прямо сейчас. Самолет - в десять. Пусть пока она, - Патричия кивнула на дочь, как на чужую, - пусть пока она у вас побудет... вот ее вещи. - Она встала и указала на две стоящие сумки. - Вот деньги... На первый случай... Потом... вышлю... еще... - Она старалась держаться спокойнее. Как можно спокойнее. Но это ей плохо удавалось, потому что слезы неудержимо катились ручьем по ее наспех припудренным щекам. Элина, не выпуская из рук кошку и куклу, подбежала к Маше, уткнулась ей в грудь и начала так реветь, что у меня по коже поползли мурашки.
- Господи! Что ж это ты надумала-то! - Маша с трясущимися губами подошла к Патричии, взяла ее, как маленькую, за руку и стала просительно заглядывать ей в глаза. - Куда это тебя нелегкая несет? Пропадешь одна-то!
- Н..н..н...на Кипр, ннн-а-а Кипр, - стуча зубами от волнения и горя, чуть слышно произнесла Патричия. - По договору. Зз-арра-бо-тттаю немного денег... На квартиру... Нам ведь с Элиной жить негде...Вот заработаю...
Так она и уехала. Элина осталась с нами. Без отца и без матери. Без бабушки и без дедушки. И сразу вместо десяток начала приносить из школы еле-еле шестерки: никаких уроков готовить не хотела. Целыми днями сидела дома и смотрела в окно, выходящее на дорогу, по которой день и ночь проносились машины. Ждала своих мамику и татику. Ни от кого из них не было ни слуху, ни духу...
Прошло еще полгода. Элина немного успокоилась, начала улыбаться. Школьный год под большим Машиным напором закончила удовлетворительно. Но от ежедневного стояния у окна и глядения на дорогу мы с Машей так и не смогли ее отвлечь. Более того, глядя в окно, она начинала негромко затягивать одну и ту же незнакомую нам заунывную мелодию. Мелодию, от которой у нас наворачивались слезы и останавливалось сердце. В такие минуты мы с Машей Элину не трогали и старались тихонько заниматься своими делами, как будто ничего не происходило.
Однажды я проснулся среди ночи: показалось, что кто-то дважды позвонил в дверь. Маши в постели не было. Охваченный каким-то недобрым предчувствием, я быстро встал с постели и, стараясь не шуметь, на цыпочках босиком направился в прихожую узнать, в чем дело. Осторожно вышел из спальни и увидел в коридоре полоску света, пробивавшегося из полуоткрытой двери комнаты, где у нас спала Элина. Тихонько заглянул вовнутрь. Чудо, которое я когда-то впервые увидел у нас в доме, сладко спало на мягком диванчике, мирно посапывая и разбросав в стороны свои смуглые ручки. Черные густые волосы разметались веером по цветной подушке, готовой вот-вот свалиться на пол. Одеяло почти съехало на бок. В неярком приглушенном свете ночного светильника я почувствовал какое-то шевеление и испугался. Замерев, я услышал какой-то неясный шепот. Решился и просунул голову в щель двери, подальше. Почти у самого окна я увидел Машу, стоящую на коленях. Она молилась.
- Боже, - разобрал я, прислушавшись, - Боже Всемилостивейший! Молю Тебя! Не дай мне раньше времени умереть! Пропадет тогда без меня мое солнышко!..
23 февраля 2002 г. Кишинев
Мороженое счастье
...Всю ночь Даниловна ворочалась с боку на бок на своей узкой и жёсткой кровати. Крепкий и здоровый сон никак не шёл: всё какая-то болезненная дремота. То в голове гвоздём сидел вопрос, чем же утром хоть кое-как позавтракать, то не давал покоя внук Димка, пославший её на три известные буквы, когда она ему вечером пеняла, что стоило бы ему хоть чем-нибудь заняться и как-то помочь их небольшой семье материально. Надо же, какой байбак вырос! Только год отучился в лицее и уже половину предметов завалил! За второй год за его учёбу платить совсем нечем да и документов никаких ему не выдают: пусть, мол, сдаст хвосты сначала... А он возьми да и брось всё! Вот и сидит дома: ни тебе дальше в школу, ни в лицей, ни на какую-никакую работу! Сидит и всё! Не хочу, мол, ничего делать! А ты, бабка, мол, уже так допекла, так шкуру содрала до крови своим шершавым, как у старой коровы, языком, что пошла-ка ты... Воспитали! Доносилась я с ним, как дурень с писаной торбой! Правильно дочка постоянно ругала: мол, что ты с ним, старая, носишься, да его выпороть давно пора, дать ему хорошего ремня, чтобы как-то мозги ему вправить, так не давала же! Ни Боже упаси! Вот и дождалась учительница русского языка и литературы от своего родного внука. Дождалась в свой адрес благодарности в виде ненормативной лексики.
Да откуда ребёнок мог что-то иное почерпнуть? Вырос-то уже в это смутное и страшное время, время, когда она уже была на пенсии, а дочка с мужем - в постоянно подвешенном состоянии. В их небольшой двухкомнатной квартирке все эти проклятые годы почти каждый день вспыхивала ссора. И не только постоянное отсутствие денег было тому причиной. Если бы только это... Как-то бы смогли пережить-перетерпеть. А как вынести каждодневный злобный взгляд зятя? Его, местного, неизвестно каким ветром занесённого в эту русскую семью, последние годы раздражала в них каждая мелочь. В унисон лозунгам на центральной площади города он и им кричал в минуты полной откровенности "Чемодан-вокзал-Россия!", искренне надеясь, что наконец-то в этой квартире появится настоящий хозяин, а не эта въедливая старая училка, которая до сих пор не хочет его прописывать у себя, и он числится постоянным жильцом квартиры своей сестры вот уже два десятилетия.
Докричался! Теперь и самого выгнали с работы его же дружки, за которых он так ратовал, пытаясь изгнать и свою семью с этой земли! Достукался! Журналист! Дожил до шестидесяти лет и ума совсем не нажил! Сидел бы в своей малотиражке и носа не высовывал. Так нет же, ему политику подавай. Да забыл, что власть-то меняется: на смену одной деревне приходит другая. Со своими кумэтрами, нанашами и свояками. Теперь вот уже почти год сидит дома, лежебочничает. На работу никуда не берут, да он и не сильно-то рвётся Ждёт пенсии. А до неё-то с нашими новыми законами ещё ого-го! А есть-пить давай каждый день. Да ещё такому двухметровому дылде. Да ещё и винца надо как-то исхитрятся покупать: как же молдавану без вина! А на какие шиши? На её учительскую пенсию, которая и так - одни слёзы?
Нет, сегодня, видно, никак не уснуть... Димка вон в углу на старом диванчике что-то во сне зубами скрипит... Так и спит с ней с рожденья в этой никогда не знавшей ремонта комнатке. А в соседней - Аня с этим Мишкой. Кажется, тоже не спят: из-под двери пробивается полоска света. Три часа ночи... Вот Аня, бедная Аня! На кой чёрт я тянулась и давала ей высшее образование? Работала бы какой-нибудь торговкой, зато сейчас бы полегче было. Так нет, все хотели быть грамотными! Партия велела всем учиться! А где она сегодня эта партия? Господа партийные бросили свой народ на произвол судьбы, а сами запели иные песни. А такие, как Аня, верующие, остались ни с чем. Теперь вот моет каждый день полы в школе и в какой-то пьяной забегаловке и благодарит Бога, что хоть такая работа иногда перепадает. Иначе ложись и помирай.
Нет, сегодня никак не заснуть... Димочка вот вечно ходит голодный. Длинный-то стал, а худой, как тростинка! Какую баланду ни приготовишь, всё сметает моментально! Забыли, когда сальце нюхали! Маленький! От постоянного голода и ругается! Да разве ж я виновата, что в доме почти каждый день - ни крупинки? Задолжали за эти проклятые комунальные услуги столько, что уже вот-вот начнут выселять из собственной квартиры! А в город выедешь - одни особняки прут и прут изо всех щелей. Да красивые какие! Как на лубочных картинках! А какие иномарки важно шуршат широкими шинами по проспектам! Не наше время... Ох, не наше... Тут Даниловна вдруг вспомнила, что вчера днём ей повезло: она встретила по пути в хлебную палатку свою бывшую коллегу-учительницу, живущую тут неподалёку, с которой они часто перезваниваются и которая пообещала дать ей несколько сосисок для их старой кошки. Мол, сосиски эти - какие-то подозрительные. Она их боится есть, пусть хоть для кошки пойдут, жалко выбрасывать. Ничего! Слава Богу, принесла три сосиски! Мы их хорошенечко прожарим-пропарим и будет нам обед-завтрак! А там - что Бог даст! Тут, наконец, к Даниловне пришёл сон и она со счастливой улыбкой на стареньком сморщенном лице отправилась в царство Морфея...
Состояние праздника не покинуло Даниловну и на следующий день. Это был действительно официальный праздничный день - День города. С утра кое-как принарядившись, она отправилась в центр в надежде, что хоть в этот день она немножко отойдёт от тяжелой домашней обстаноки. Аня уже давно убежала на рынок: там её обещали устроить продавать по выходным старое заграничное тряпьё. Зятёк, как обычно, валялся в постели. Димочка тоже был в постели, несмотря на довольно позднее утро. Про сосиски она никому не говорила, собираясь из них приготовить обед, так что для вставания с постели особых причин у отца с сыном не было: завтрак и не намечался.
В центре города, на его главном проспекте, среди празднично одетых людей и разнообразных выставок всяких изделий различных предприятий, учреждений и фирм Даниловна как-то приободрилась, похорошела, даже фигура её выпрямилась и демонстрировала некоторую солидарность с сытым и нарядным людом, вяло прохаживающимся туда-сюда среди всей этой городской бутафории счастья и достижений. Правда, она не подходила близко к выставкам разнообразных съестных изделий: боялась, что не выдержит и упадёт в голодный обморок. Но на плакаты и лозунги глядела истово и радовалась их нарядному виду.
Вдруг кто-то тихонько тронул её за плечо: "Нина Даниловна?" Она, вздрогнув, быстро обернулась. Перед ней стояла пара: мужчина и женщина. Обоим лет за сорок. Оба - в новеньких кожаных полупальто. От обоих немного пахло вином и дорогими духами. "Не узнаёте, Нина Даниловна?" "Нн-е-ет!, - удивлённо протянула Даниловна, - не узнаю". Она вдруг как-то согнулась вся, вся сморщилась, уменьшилась в размерах в своей сильно потёртой чёрной юбке и нелепой зелёной старомодной кофте, местами сильно побитой молью, не зная куда девать старые чёрные кроссовки, в которые она была обута и которые были на три размера больше, отчего их носы были слегка загнуты кверху. Её абсолютно белая голова, стриженая под мальчика, невольно потянулась в сторону небольшого подносика в руках мужчины, на котором горкой красовались несколько пирожных и стояла бутылка красного дорогого вина. Даниловна невольно сглотнула слюну, не в силах перевести взгляд на лица остановивших её людей. "Вы были у нас классным руководителем в восьмом "Б". В 197.. году, помните? Мы..." Тут они принялись наперебой называть свои фамилии, напоминать ей, как она вызывала в школу их родителей, рассказывать ей, как они потом учились дальше, потом поженились... Даниловна внимательно всматривалась в эти чем-то знакомые ей лица и пыталась вспомнить те далёкие-далёкие детали её школьной жизни, о которых напоминали ей эти двое взрослых, по всей видимости, хорошо обеспеченных людей. Но воспоминания приходили плохо. Даниловна нет-нет да бросала голодные взгляды на небольшой подносик с горкой пирожных, который держал в одной руке по-видимому её быший ученик...
На следующий день, едва дождавшись утра, она позвонила своей школьной коллеге, выручившей её подпорченными сосисками, и захлёбываясь от переполнявшей её радости, принялась рассказывать о счастливом вчерашнем дне, проведённом ею на празднике Дня города, о встрече с её бышими учениками. "Я, как и все нормальные люди, вчера ела пирожные и мороженое", - с гордостью поведала она и тихонько положила трубку, на которую капали и капали холодные старческие слёзы...
15.10.2004 г. Кишинёв
Урок литературы
Сегодня Лидии Захаровне что-то неможилось: сильно ломило спину и противная дрожь в ногах не позволяла передвигаться даже по квартире. К тому же и с головой что-то неладилось: то ли болела, то ли кружилась немного. Но на такую мелочь Лидия Захаровна уже давно привыкла не обращать внимания: её долгая учительская деятельность приучила её к этому. Вот спина... Лидия Захаровна с самого утра, когда только-только что встала с постели и принялась собираться в школу, сразу почувствовала свою спину. Ни встать, ни согнуться, ни разогнуться. Она по-привычке решила не обращать внимание, мол, разойдётся все, разомнётся и поутихнет и поэтому начала быстро собираться на занятия: у неё был первый урок в восьмом "Б". Должно было быть сочинение. Тема была очень важной: "Патриотизм в Советской литературе". Никак нельзя пропустить. Директриса на днях вызывала её к себе и вне плана приказала провести в старших классах сочинение на тему любви к Родине, к Партии, к Великому Сталину.
Стояла зима 1945-го года, их небольшой посёлок ещё не остыл от недавней оккупации, от жарких партизанских боёв в окружающих его горах, покрытых густыми малопроходимыми лесами, от жестоких бомбардировок и артобстрелов, после которых, наконец-то, повыгоняли немцев, грабивших тут всех и вся, каждый день шарашивших по дворам с требованием "Мамка, давай млеко, курка, яйки, чушка давай!" и за малейшее непослушание стрелявших без разбора из своих куцых автоматов направо и налево.
Несмотря на то, что уже почти год, как школа начала вновь действовать, в классах было по три с половиной калеки, писать было не на чем и нечем. Но если с ручками и чернилами ещё кое-как обходились (ручки с почти уже поржавевшими перьями сохранились ещё с довоенных времён, а чернила готовили из ягод бузины, обильно произроставшей в этих местах), то с тетрадками была прсто беда. Даже и бедой то это положение назвать не поворачивался язык: тетрадок просто никаких и не было. Нигде. Ни у кого. Во всём посёлке их было не сыскать. Не было и всё. Вместо тетрадок ребятня писала на старых газетах, которые директриса получала в районе строго по лимиту и также строго по лимиту выделяла их на каждый класс. Зато домашним было хорошо: сначала они прочитывали старые газеты, обсуждали дома все почерпнутые из них новости, а уже потом с большим трудом разбирали в них каракули своих отпрысков.
Сочинение никак нельзя было пропустить. Лидия Захаровна, кое-как одевшись, пошла было к выходу, захватив с собой небольшую холщёвую женскую сумочку, но не дошла: голова сильно закружилась, по телу пошёл холодный озноб, её затрясло, и она едва удержалась на слабых ногах, не дойдя шага до двери в сенцы. "Школа-то, вот она, прямо через дорогу, дойду как-нибудь", - подумала быстро она и попыталась оторваться от стенки, к которой её прибил озноб. Да не тут-то было: не получалось ровно стать: ноги не слушались и в спину что-то так вступило, что никак нельзя было разогнуться. Лидия Захаровна кое-как по стенке, по стенке пошла назад в комнату, дошла до своей кровати да так и упала на неё, чуть было совсем не испустив дух: ей стало совсем плохо. Так ничком и в верхней одежде и продолжала лежать. Сил подняться и раздеться уже не осталось...
Лидия Захаровна жила в своём небольшом учительском домике одна. В начале тридцатых ей с мужем и сыном домик выделила школа. Муж работал в этой же школе учителем математики. Домик располагался прямо против их школы и был такой же красно-кирпичный, как и их одноэтажная десятилетка, гордость посёлка, выстроенная тогда же в начале тридцатых: существовавшая в посёлке начальная школа не справлялась с ликвидацией безграмотности взрослых и обучением их детей в бурно развивавшемся посёлке, вблизи которого открыли нефть и в который хлынул рабочий люд на нефтеразработки.
С началом войны муж ушёл на фронт, а когда пришли немцы, сын убежал к партизанам. Там он и погиб незадолго до освобождения посёлка. Его и ещё нескольких ребят торжественно перезахоронили в центре посёлка сразу после того, как выбили немцев. Лидия Захаровна на этой церемонии упала в глубокий обморок, из которого её вывели только на следующий день фельдшера местной поликлиники, открытой за день до церемонии перезахоронения и созданной на базе медсанбата части, освобождавшей их посёлок. Спустя полтора месяца после описываемых событий, она получила похоронку на мужа, которая почти три года болталась где-то по штабам из-за невозможности доставить её по месту жительства адресата. Осталась совсем одна эта старая учительница литературы...
Она лежала ничком на кровати, боясь пошевельнуться. Озноб никак не проходил. Сил подняться, раздеться и лечь в постель совсем не было. В комнате было холодно: печь ещё с ночи остыла. "Может, в школе хватятся меня да прибегут, - невесело думала она. - Рядом ведь. А то, не дай Бог, так и помру одна тут в холоде." Потом она понемногу забылась.
Разбудил её какой-то нерешительный стук в дверь. Будто кто-то стеснялся её потревожить. "Ну, наконец-то! Хватились!" - с облегчением подумала Лидия Захаровна и от пришедшей помощи ей вдруг стало легче. Она, постанывая, поднялась с кровати и медленно, почти наощупь, пошла в сенцы открывать входную дверь. Вновь послышался осторожный стук. "Иду-иду! - слабо прокричала Лидия Захаровна, - Иду!" "Наверно, прислали какого-нибудь ученика узнать в чём дело", - подумала она и принялась отворять засов, даже не спросив, кто это так осторожно стучал в её дверь.
На пороге стоял незнакомый военный. В солдатской шинели, шапке-ушанке с опущенными ушами и с вещмешком на плече, он переминался с ноги на ногу и его блестящие хромовые сапоги хрустели при каждом новом движении их хозяина. Лидия Захаровна мало что понимала в военном обмундировании, но про себя почему-то отметила именно эти блестящие хромовые сапоги, хрустящие на пятнадцатиградусном морозе, стоявшем сегодня на дворе. "Как будто снял с убитого офицера", - почему-то пришла ей в голову крамольная мысль и она быстро перевела глаза с сапог пришельца, переминавшегося на крыльце, на него самого.
- Вам кого?, - кутаясь поглубже в своё неснятое с самого утра пальто, отчего на улице в нём стало необыкновенно холодно, спросила она. - Вам кого? - повторила она своим требовательным учительским голосом.
Не узнаёте, Лидия Захаровна? - спросил тут же её военный. - Не узнаёте? - для большей убедительности быстро повторил он.
- Не уз... - начала, было, учительница, глядя пристально на военного. - Миша, что ли? Шахрай? - закончила она. - Ты что ли, Миша?
- Я, я - закивал утвердительно военный, - он самый, Шахрай. Рядовой Шахрай в родные места после тяжёлого ранения прибыл! - бодро отрапортовал учительнице военный. - Вот пришёл проведать свою любимую учительницу. Как, пустите? - вопросительно глядя в глаза Лидии Захаровне, закончил он, почему-то оглядываясь по сторонам. Домик Лидии Захаровны стоял у самой улицы боком к ней, стоял совсем голым, безо всяких палисадничков с заборчиками из штакетника, как у соседей, и походил на одинокую его хозяйку. Поэтому всяк входивший в него был виден не только из соседних со стороны его фасада домов, но и из домов с другой стороны улицы, с той стороны, на которой располагалась школа. "Наверно разведчиком был на фронте", - подумала, улыбаясь про себя, учительница, от профессионального взгляда которой не ускользнуло это движение её бывшего ученика..
- Входи, входи, Миша, гостем будешь, - произнесла Лидия Захаровна, распахивая шире входную дверь и пропуская в полутёмные сенцы мимо себя гостя. - Открывай дверь в дом!
Сама же она принялась закрывать на засов дверь на улицу, удивляясь в душе, что такой разгильдяй и хулиган, как этот Мишка Шахрай, соизволил прийти проведать учителку, которую он всегда ненавидел из-за того, что его родители постоянно вызывались ею в школу, потому что он ровно через день срывал занятия по какому-либо предмету. "Видимо, война не только ожесточает, но и очищает людские души. А может, он просто повзрослел", - примирительно подумала старая учительница и пошла потихоньку в дом вслед за своим бывшим учеником.
- Приболела я что-то сегодня, Миша, - извиняющимся тоном обратилась она к Шахраю. - Вот и в школу не смогла пойти. Думала, что кто-то из школы пришёл меня навестить, когда услышала твой стук в дверь.
- Ну, мы вас сейчас быстро на ноги поставим! - весело засуетился Шахрай, проворно вынимая из своего вещмешка и выкладывая на стол в кухне, куда они только что зашли, буханку чёрного хлеба, литровку водки и две банки свиной тушёнки. - Танцевать начнёте, не то, что в школу пойти!
Он тщательно очистил буханку и банки с тушёнкой от густо прилипших к ним ворсинок пакли, которая пряталась по закоулкам его солдатского походного склада, не снимая шинели, решительно, по-хозяйски, уселся за стол, пододвинув к стоявшей рядом учительнице свободную табуретку и жестом пригласил её последовать его примеру. Лидия Захаровна боялась смотреть на такое количество давно не виданной ею еды и застыла у стола, как в столбняке, напрочь позабыв о своём недавнем недомогании. Старалась не показать гостю, что она постоянно сглатывает неудержимо выделяющуюся у неё во рту голодную слюну.
...Когда почти молча выпили сначала по первой - за Победу, а по второй - за Сталина, когда под властным нажимом бывшего ученика Лидия Захаровна осторожно поела хлебца со свининкой, разговор пошёл побойчее, повеселее. Начали вспоминать довоенную школу, ребят, учителей. Не забыли и войну. Лидия Захаровна рассказала, что теперь она совсем одна-одинёшенька, совсем постарела и не знает, как дальше жить. К сыночку хоть на могилку можно сходить, а вот где её муж Василий Прохорович, в какой землице он мается, то неведомо ей. А сколько таких, как её муж и сын...
- Тебе, Миша, сильно повезло, что остался жив, - плакала Лидия Захаровна, - вот устроишься как-нибудь, женишься, детишки пойдут... Заживёшь... А мне уж...
Шахрай угрюмо молчал, смотрел куда-то в угол комнаты да подливал себе водки...
- Жизнь... Она у тебя, Миша, только начинается. Помнишь, как у Николая Островского в его романе "Как закалялась сталь": "Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать..."
- Я никак не мог заучить это... на ваших уроках... Никак... - перебил учительницу Шахрай, пьяно мотнув головой в ушанке, которую он так и не снял, как и шинель: будто находился где-нибудь на привале. Потом залил в себя очередной стаканчик. - Зачем учить... такие длинные... куски?
- Учить надо, Миша, чтобы быть лучше, чтобы делать вокруг себя всё и всех лучше... Чтобы человек оставался всегда Человеком, не превращался в зверя и не уничтожал себе подобных. Будь то из-за несходства мыслей или из-за куска хлеба или какой тряпки. Помнишь, как у Чехова...
Не надо этого... Не надо... - поднимаясь из-за стола, мрачно проговорил Шахрай. - Спасибо, Лидия Захаровна. А то я сейчас заплачу... Мне пора уже... А то вас придут навестить...
- Да, да, Миша! Конечно! Я так благодарна тебе, что ты не забыл меня, что зашёл навестить свою старую одинокую учительницу... Накормил, вот... - она покраснела при этих словах. - Пойдём, Мишенька, я тебя провожу... Приходи ещё, когда пожелаешь...
Лидия Захаровна торопливо вылезла из-за стола и направилась к выходу. Шахрай, не глядя на свой вещмешок, брошенный открытым возле стола, за которым протекала их трапеза, тут же направился вслед за учительницей. Когла они подходили к сенцам, он быстро вытащил из бокового кармана своей шинели трофейный "Кольт" и, не целясь, выстрелил ей прямо в затылок... Затем спокойно вернулся к столу, допил водку, аккуратно сложил остатки пищи обратно в свой вещмешок, сопя, крепко его завязал. Потом, немного о чём-то подумав, вновь развязал вещмешок, бросил его на табуретку и пошёл осматривать единственную комнатушку в этом доме. Сначала занлянул под матрас. Матрасик был старенький, слежавшийся и в некоторых местах из него торчала вата. Ничего не обнаружив под матрасом, Шахрай тщательно его прощупал, перебрал пальцами чуть ли не каждую ворсинку ваты, но и так ничего не нашёл. Затем он принялся осматривать старый двустворчатый платяной шкаф. Но и там ничего полезного для себя не обнаружил. В шкафу хранилось стиранное-перестиранное нижнее и постельное бельё да одно какое-то кремового цвета поношенное платье. Похоже, что такое он видел на немецких фрау. Подумав, он сунул платье в вещмешок. Сбоку шкафа на криво прибитом гвозде он обнаружил белый мужской овчиный полушубок. Обрадовавшись, наконец, он быстро стащил с себя шинель, затолкал её в вещмешок, переложил "Кольт" в карман полушубка, надел полушубок на себя и направился к выходу. Аккуратно переступил через лежавшую в луже крови учительницу и только открыл дверь на улицу, как нос к носу столкнулся с женщиной, уже поднимавшейся в дом по ступенькам.
- Здравствуйте, - сказала женщина. - Лидия Захаровна дома? Вот соли прибежала занять, - извиняясь, улыбнулась она. - Лидия Захаровна всегда меня выручает по-соседски. Золотой человек!
- Здравствуйте, - ровно сказал Шахрай. - Я тут...
Он молча полез в карман полушубка, спокойно достал "Кольт". Завидя всё это, соседка, ойкнув, кинулась, было, бежать, но выстрел настиг её на последней ступеньке. Она ткнулась лицом в снег, дёрнулась и затихла...
Шахрая взяли через каких-то сорок минут в забегаловке, находившейся в центре посёлка и всегда полной недавними фронтовиками, постоянно выяснявшими между собой отношения по поводу того, кто из них главней и на каком фронте кто бил гада. Редко обходилось без стрельбы. Шахраю не хватило водки и он пытался сменять полушубок и поношенное платье, взятые у убитой им учительницы, на две бутылки водки. Когда его с заломленными назад руками двое милиционеров запихивали в "Газик", он мычал непослушными губами: "Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно..."
17.12.04. г. Кишинёв
Серый
"Перед выбором...
9-е ноября 2004 года. На дворе - +90С. В квартире - на один градус меньше. Парадокс? Да нет. Не более, чем вся наша сегодняшняя, как впрочем, и вчерашняя жизнь. Сегодня мы платим за "свободу" тем, что власти не хотят пускать тепло в наши дома и в наши души. Вчера мы платили за несвободу тем, что в домах всегда было тепло и сытно, дети не бомжевали, как сегодня, прячась по подвалам, разрушенным домам и канализационным люкам. Но души наши, как и сегодня, были полны отвращения к властьимущим, к их подлым роскошествам, которые они, в отличие от сегодняшних, действующих нагло, цинично и напоказ, пытались прикрыть некой тайной "заднего крыльца", когда одним выдавались спецпайки и их холуи-водители доставляли в дом "хозяина" бесчисленные кульки, пакеты и свёртки с дефицитом, сильно потея и пыхтя и воровито оглядываясь на оказавшихся ненароком рядом простых прохожих. Когда к глухим воротам других подруливали тяжело гружёные колхозные грузовики и группа подневольных "коллективных собственников" часто во главе бригадиром, хранившем при себе свой красный партбилет, который не жёг его продажную душу, а мягко согревал жирное тело, группа красных подневольных "коллективных собственников" сгибаясь под тяжестью аккуратно зашитых мешков, вереницей тащилась во двор, где хозяйка уверенно распоряжалась куда и что расставлять. И не дай Бог, если простой смертный, случайно наблюдая это "обычное мероприятие", пробовал раскрыть свой рот, которому всегда положено было быть в таких случаях на крепком замке. Не приведи Господи!
Один мой хороший знакомый, к сожалению очень рано и по невыясненным обстоятельствам ушедший из этой жизни, рассказывал мне, как в районе, где он работал после окончания ВУЗа, произошёл вполне ординарный случай, когда при очередном завозе с колхозных полей провизии для секретаря местного райкома партии шофёр грузовика перепутал ворота. Шофера, возившие ответственный груз, были разные и часто ошибались воротами, пытаясь выгрузиться у соседа владыки района, но каждый раз сосед секретаря, терпеливо указывал им на настоящие, на хозяйские ворота. На этот раз на соседа что-то нашло и он, не моргнув глазом, приказал шофёру разгрузиться у себя во дворе. "А будь что будет! А пусть этот вор поднимает шум! Пусть покажет, что он, пользуясь данной ему властью, бесплатно кормится с колхозных полей!" Неопытен, хотя и норовист, был этот работяга. Ему долго и упорно вдалбливали на разных собраниях, что он - гегемон, что страна - его и что "всё вокруг моё". Ан нет! Всё вокруг было секретарево, а не гегемоново! Секретарь сначала попросил своего норовистого соседа отдать добычу подобру-поздорову, по-тихому, без шума. Но это только подзадорило гегемона. Он ничего не отдавал и при этом пытался заручиться поддержкой таких же гегемонов на своем предприятии. Да не тут-то было! Его друзья-гегемоны отводили глаза и советовали быстренько сдаться и их не впутывать, ибо у них у каждого - семья, которую надо как-то кормить. Опять же - очередь на квартиру можно потерять. Один даже сказал, что ему в райкоме обещали пыжиковую шапку в этом году. Тогда упрямец решил писать в местную газету: ему на собраниях говорили, что советская пресса - самая свободная и справедливая пресса в мире. Хотя и партийная. Но всё прервали прокурор и начальник местной милиции: по приказу секретаря райкома его забрали и дали двадцать четыре часа на то, "чтобы духу его в этом городке не было, иначе посадят на десять лет с конфискацией, а до этого он будет находиться в СИЗО". Гегемон уже на следующее утро бегал по Одессе в поисках хоть какой-нибудь работы, а жена с малыми детьми сидела на грязном вокзале под анекдоты про очередного Генерального секретаря... "Пол-страны сидит, а пол-страны готовится", - справедливо написал поэт Роберт Рождественский о нашем прошлом житье-бытье... А если к спецпайкам добавить ещё и спецвузы, в которых могли учиться только дети партийно-советской элиты...
Но и нынешнее наше житьё не лучше. Может потому, что у власти практически остались те же люди? Вывернулись, извернулись и вновь наверху? А мы где с вами при этом были? И где мы с вами сейчас? Сегодня эти сторонники диктатуры пролетариата - ярые поклонники демократии! Сторонники тоталитарной плановой экономики сегодня с пеной у рта защищают такую недавно ненавистную им частную собственность, которой у них вдруг оказалось, как принято выражаться, немеряно! Не напоминает ли нам это волков в овечьих шкурах?
Все бывшие коммунисты сегодня разбились на два крупных лагеря - якобы демократов и якобы новых коммунистов - и яростно, насмерть, бьются между собой за власть в государстве, не подпуская и на пушечный выстрел к ней простых смертных. Запах власти, которая сулит обладание огромными деньгами через коррупцию, запах близости к государственному бюджету, от которого можно откусить кусок пожирнее, сводит с ума этих людей, для которых никакая идеология не чужда: лишь бы только она вела к желаемому успеху.
В своё время они сошли с ума, потому что не знали, чего уже хотеть. И они совершили переворот. Сегодня их жирные затылки можно наблюдать в храмах, где они истово молятся наряду с теми, которых они только вчера изгоняли из ВУЗов за верность вере в Бога. Сегодня они обнимаются на улицах Иерусалима с теми, кого они не допускали к учёбе в ВУЗах, приказывали не брать на работу и вводили "коэффициент еврейства" в организацях, учреждениях и на предприятиях, вынудили почти всех покинуть эту страну, а теперь, откровенно перед ними лебезя, приглашают "посетить свою бывшую родину и оставить в её чреве как можно больше своих шекелей"...
Сегодня они братаются с бывшими фашистами, топтавшими их землю, лижут им пятки и зазывают скупать всё, что с таким трудом было создано предыдущими поколениями, обретая тех, кто ещё не сумел убежать от такой власти за границу, на присутствие этой заграницы у себя дома. Они всё распродают направо и налево. И, видимо, небескорыстно: вон как растут их особняки и вон как их отпрыски учатся и работают на престижных должностях за границей! Вот вам (то есть - нам), бабушка, и Юрьев день!
Назад не хочется, но и нынешнее состояние - хуже губернаторского! ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?"
Этот материал я показал редактору-владельцу одного маленького по формату и по содержанию журнальца, в котором владелец иногда публиковал мои вирши и всякие короткие шутливые заморочки. Человек он был на вид неплохой, на днях ему исполнилось семьдесят. Но он был бодр, подвижен, деятелен. Настораживало только то, что все четыре старушки, составляющие его редакцию и, по их словам, работающие с ним с незапамятных времён, были тихи, как мышки, не высовывались и до неприличия подобострастны. Это было вполне объяснимо: все они давно сидели на мизерных пенсиях, ни о какой работе в другом месте и речи не могло быть. Хотя приработок в журнальце составлял одни слёзы по сравнению с тем, сколько энергии они ему отдавали, всё же для старушек это был спасательный круг в сегодняшней их жизни: без такого приработка можно было быстро протянуть ноги.
Политические пристрастия редактора были явно на стороне прошлых властей. Он этого никогда не скрывал и часто публиковал на первых страницах журнальчика свои небольшие патриотические статейки: формат и тематика журнальца не позволял сильно распространяться на эту тему. Однако редактор был очень недоволен современным коммунистическим правлением в республике, постоянно ругал современных "лже-комунистов и дерьмократов" и больше хвалил соцпартию, чью газетку он издавал под старые коммунистические праздники и в чьем домишке совсем бесплатно размещал свою редакцию. При нынешних ценах на аренду помещения это позволяло журнальчику просто выживать. Налицо подтверждался вывод К. Маркса: "Бытиё определяет сознание".
Тут мне вспоминается один мой трёп в московской гостинице, какие обычно случаются между постояльцами, с каким-то важным чином из Морфлота, оказавшимся со мной в одном номере. Было это в середине 70-х годов. Тогда в беседе с ним, я привёл это изречение Маркса, на что чин меня тут же важно поправил: "Общественное бытиё определяет общественное сознание". "Ничего себе! - подумал тогда я, - как перевернул! Это уже совсем другой коленкор получается!"
Итак, я принёс в редакцию описанный выше материал для очередного номера, попросил верстальщика, сидевшего в одной комнатке с редактором, распечатать его с дискеты, на которую я предварительно записал статью дома. Редактор, с которым мы поздоровались за руку, тут же уткнулся в какую-то газету, а верстальщик принялся за распечатку. В комнатёнке постоянно горел тусклый свет: её единственное оконце выходило на стену соседнего дома, которая от самого оконца отстояла ровно на полметра. В верхней части оконца был вмонтирован старый-престарый кондиционер "Бакы", давным-давно неработающий, а всё пространство от облупившегося подоконника до кондиционера было заложено какими-то старыми пожелтевшими папками с такими же давно пожелтевшими листами бумаги внутри. Через минуту распечатка материала была выполнена, я вынул листки из принтера и положил их перед редактором, а сам присел за приставной к его заваленному чем попало столу столик. Взял со столика какую-то старую газету и молча принялся её просматривать, ожидая, когда редактор начнёт читать мой материал. Через некоторое время редактор оставил своё занятие и принялся за чтение моей статьи. Я же продолжал почитывать газету. Минуты через четыре я услышал неопределённый звук со стороны редактора и поднял на него глаза. Редактор выглядел сильно взмокшим, по его лбу и глубокой лысине, обведённой по бокам жёскими седыми прямыми волосами, пошли красные пятна.
-- Да-а-а! - Севшим от глубокого возмущения голосом произнёс редактор. - Да-а-а.. Совершенно необъективная и злобная статья! Абсолютно необъективная и злобная! - для большей убедительности добавил он. - Я сам вырос в семье секретаря райкома и никогда такого не видывал! Правда, бочонки с вином иногда приносили, но чтоб такое! Абсолютная ложь!
Я тоже от неожиданности остолбенел: он же, во-первых, ругал современных коммунистов, о чём и говорится в статье, а во-вторых "как вам нравится "во-первых?" тут же вспомнил я одесский анекдот. Ну и вляпался я, как обычно! Кто ж знал, что он из такой семейки! Редактор продолжал пускать какие-то пузыри по поводу "грубой и бездоказательной клеветы", а меня начала забирать какая-то внутренняя, скажу приямо, "классовая злость".
-- Хорошо, - сказал я редактору как можно спокойнее. - Давайте разберёмся, где тут ложь, а где - правда. Понятно, что вы публиковать материал не станете. Но просто для выяснения истины давайте поговорим. По поводу описанного поведения секретаря райкома вы возражаете? Так?
-- Такого быть не могло в природе! - закипятился редактор. - В при-ро-де! - повторил он для большей убедительности по слогам. - Вы это понимаете?
-- Нет, не понимаю, - ответил я. - Этому были свидетели.
-- Какие свидетели? Назовите фамилии и адреса!
-- Счас! - ответил я ему шутовски, - только пойду умоюсь! - Вы сами-то хоть раз назвали в своих публичных критиках хоть одну фамилию? Никогда? А от этого приводимые вами факты не переставали быть фактами?
-- Я на власть никогда бочки не катил! Никогда! Власть - она есть власть! Её трогать нельзя! Ни языком, ни руками!
-- Особенно наша прошлая, - поддакнул я ему. - А кто, простите, кого должен вызывать "на ковёр": прокурор секретаря райкома или наоборот?
От такой моей наглости редактор даже поперхнулся. Но придя в себя, в ответ промолчал.
- Ну вот видите, - не удержался я. - При всём нашем недовольстве сегодняшней властью, мы имеем возможность и такие вопросы ставить. А "во времена оны" подобные вопросы нельзя было и мысленно себе задавать: можно было враз оказаться в "местах отдалённых". Ведь так? И с помощью вашего непорочного родного секретаря райкома.
-- Ну может описываемый вами случай и имел место, - начал отходить редактор, - но зачем же так обобщать? Зачем всё хорошее дёгтем мазать?
-- А я и не мажу, - возразил я. - Хорошее никаким дёгтем не замазать. Но негодяев и систему, которая их порождает, надо выявлять и предавать всё это гласности. Вы ведь не хотите прямо отвечать на вопрос: в нормальном, по-людски устроенном государстве кто кого должен вызывать "на ковёр": прокурор секретаря райкома или наоборот? Вашего родственника, секретаря райкома, часто вызывал к себе прокурор?
Редактор снова проигнорировал мой вопрос и принялся рассказывать случай, когда ему пришлось, будучи главным редактором одного республиканского журнала, ехать по делам с секретарём райкома одного из южных районов республики, чтобы проконтролировать строительство крупного гидротехнического объекта. Разговор был заведён, чтобы показать, что как ни приглашали этого секретаря местные начальники в разные баньки попариться, он твёрдо проявлял своё партийное достоинство и ни на какие такие дела не шёл. "Правда, в несколько специальных домиков мы заезжали, где нам накрывали столы. Без этого нельзя", - подытожил в конце рассказа редактор.
-- Почему же так и нельзя? - спросил я, - вы разве расплачивались собственными деньгами за всё? Нет? Задаром? А как должен был отчитываться тот, который вам всё это устраивал? Списывал? Тогда чем этот случай отличается от описанного мною в статье?
-- Без этого нельзя, - твёрдо разъяснил мне редактор. - Надо знать психологию людей.
Я видел, что разговор идёт, как говорят, "в пользу бедных". То есть впустую. Этого человека, вкусившего от плода той власти, выросшего в семье всевластного партийного руководителя, ничем пронять нельзя. Но меня всё-таки подмывала скверность моего характера задать редактору ещё хотя бы один вопросец. И я сделал это.
-- А как вы смотрите на то, что крестьяне не имели права выбраться за пределы своей деревни без разрешения председателя колхоза?
-- Это всё ложь! - вскинулся редактор. - Они могли ехать куда угодно!
-- Ой ли? - не поверил я. - Без паспортов, которые им никогда не выдавали? До первого милиционера? Я вспоминаю времена, когда я служил в армии. Ребята, призванные из сельской местности, всегда ломали голову перед демобилизацией, куда бы на какую комсомольскую стройку сразу завербоваться, чтобы там получить заветный паспорт и иметь, наконец, возможность передвигаться не только по своей деревне, но и за её пределами. Разве не так?
-- Во-первых, я в армии не служил, - с каким-то превосходством медленно ответил мне редактор, и я почувствовал, что он смотрит на меня, как на плебея, нивесть откуда свалившемуся на его седую голову. - Во-вторых, - продолжил он, - я в ваши армейские времена уже работал в районной газете и знаю, что крестьяне могли ехать куда угодно! Но кто же их отпустит, когда идёт уборка? - резонно заключил он.
-- Вот-вот, - в тон ему проговорил я (скверный характер!), - уборка круглый год! По-моему, лет четыреста назад холоп всё же один день в году (на Юрьев день) получал волю и мог переходить от одного барина к другому. А у нашего крестьянина и такого права не было!
-- Это не правда! Хрущёв потом приказал выдавать паспорта!
-- Конечно. А если бы не Хрущёв? Кстати, этот же Хрущёв в 1962 году приказал расстрелять мирную демонстрацию в Новочеркасске. Не так ли? Руководители её тоже пошли под расстрел. А люди требовали только пересмотреть нормы выработки на заводе... Это как объяснить? Это тоже неправда? Не пора ли, наконец, некоторым хотя бы покаяться?
-- Никто каяться не собирается! - тут же отрезал, не задумываясь, редактор.
Он сидел потный, красный, надутый и злой. Чтобы как-то разрядить обстановку, я попросил верстальщика, сидевшего за компьютером и делавшего вид, что он ничего не слышит, распечатать мне для показа редактору другой материал, другую статью, которую я на всякий случай заготовил для редактора и содержание её было прямо противоположным. В ней я ругал современных демократов. Вот эта статья.
"О крокодиловых слезах
Жили-были две страны. Нет, не сверхдержавы. Скорее наоборот. Но что интересно, в обеих царствовала демократия, хотя располагались они друг от друга на большом-пребольшом расстоянии. То есть и они не избежали этой заразы. Потому что что есть демократия? Это когда в стране нет никакой власти и сильный пожирает слабого. Это когда у каждого есть своя небольшая армия из родственников, друзей, знакомых и платных наёмных соучастников со своими прокурорами, судьями, боевыми группами, тыловым обеспечением, разведкой и контразведкой, армией, которая решает все проблемы на захваченной ею территории, и ты всегда, если хочешь нормально жить, должен дружить с владельцем этой гашки1, т.е., простите, компании.
Демократия, это когда центральная якобы власть существует сама по себе и якобы управляет страной, выезжая за границу на всякие форумы-презентации, сидит под общим для страны флагом и по утрам ровно в шесть слушает свой странный (от слова "страна") гимн, радуясь, что он, де, вдохновляет всё население на разные-всякие полезные дела. Например, на уплату налогов, без которых центральная власть враз вымрет, потому что не станет денег оплачивать членские взносы одновременно в тридцати международных организациях, которые только поэтому и признают такую власть и помогают ей сидеть наверху над всеми местными, локальными владельцами захваченных (или - контролируемых, так будет более демократично звучать) территорий.
Демократия, это когда от каждой гашки (опять сбился! Вот привязалось ко мне это слово! Наверное, потому, что оно похоже на "гашетку"), т.е., простите, компании на основе якобы тайных выборов в общий парламент попадают свои люди и решают свои вопросы. Выборы должны быть обязательно тайными, потому что не положено засвечивать те мешки денег, которые привозятся, в основном, из-за границы для оплаты нужных результатов голосования. Иногда, правда, мешки выпадают из рук прямо на тротуары, но простому люду тут же компетентно объясняют, что их содержимое призвано обеспечить ремонт таких тротуаров, чтобы в будущем мешки с деньгами не выпадали из рук их владельцев в таких сомнительных местах в самое неподходящее время.
Много ещё чего интересного можно писать про демократию, да мы не на этом хотели остановиться. В каждой из вышеназванных стран в условиях полной и окончательной победы демократии реальной властью в некоторый момент стала обладать определённая гашка (станем употреблять именно этот термин, потому что "компания" - это нечто мягкое, дружественное и тёплое, в отличие от гашки). И что замечательно, во главе каждой из гашек стоял человек по фамилии Крокодилов. Заметьте: это происходило в разных странах. Наверно, всё это от демократии. И что совсем уже замечательно, в каждой из этих стран стали учинять погромы граждан, не входящих ни в какие местные гашки, а мирно до этого трудившихся на своих рабочих местах и ни кого не трогавших, и выгонять их за пределы контролируемых гашками территорий, т.е. за границу. Всё бы ничего, ведь, говорят, что за границей народ живёт намного лучше, чем в этих гашковых странах, да изгоняемым не давали с собой ничего брать из их имущества. "Чемодан - вокзал", если успеешь. А не то...
Оба Крокодилова, хотя и не были между собой знакомы, но действовали, точно родные братья. Почти, как близнецы. Но кто-то, видать, надоумил изгоняемых и они, как и "братья" Крокодиловы, повели себя совершенно одинаково: они собрались на определённых территориях и организовали у себя свои собственные, родные гашки, которые не стали пускать на контролируемую теперь уже ими самими территорию никого из гашек Крокодиловых! А чем они хуже! Крокодиловы и так с ними, и сяк, с пушками да танками, со всякой международной общественностью, которая сидит в тех тридцати организациях, которым Крокодиловы платят членские взносы. Да не тут-то было! Не могут вернуть под свой контроль утраченные территории. Не могут и всё! Демократия!
Хотя до этих событий и значительно позже них "братья" Крокодиловы не были между собой знакомы, но какой-то очередной международный форум свёл их вместе. Они познакомились и с удивлением констатировали не только друг перед другом, но и перед всей международной прессой, что у них-то, оказывается совершенно сходные проблемы: как вернуть утраченные территории и освободиться от вновь появившихся "новых незаконных гашек" (цитата). Они оба так расчувствовались такой общностью своей государственной и личной доли, что стали плакаться своими крокодиловыми слезами, чтобы вызвать к себе международную жалость. Но международная жалость признаёт только хорошие членские взносы и никак не реагирует на любые крокодиловы слёзы. Так до сих пор непрерывно каждые сутки и проливаются крокодиловы слёзы в двух "братских" странах..."
Редактор, всё ещё злой, потный и красный, внимательно вчитывался в каждую строку и по мере продвижения по строкам, лицо его принимало всё больше и больше довольное выражение.
-- Ну вот, - улыбаясь, сказал он, заканчивая чтение. - Это другое дело. Шутку я понял. Я даже понял, о ком идёт речь.
-- И что же? - я вопросительно смотрел на него.
-- Это статья - для газеты, но не для моего журнала. - Слишком велика, - уклончиво заключил он. - Мне надо больше писать о капусте...
-- Без капусты нам никак нельзя, - согласился я и стал собираться восвояси. Редактор снова молча уткнулся в оставленную было газету...
Но Судьба - штука довольно интересная, и она ещё не однажды плотно сводила меня с редактором. Дело в том, что описываемый выше свой журнальчик редактор печатал в Тирасполе: там выходило намного дешевле. Иногда он посылал отвозить материал, подготовленный к печати, кого-то из своих стареньких сотрудниц, но чаще всего, в виду очевидной немощи старушек, этим делом занимался помошник редактора по хозяйству: крепкий пятидесятипятилетний мужчина, которого редактор всегда окрикивал как Сашу. Ругал он его постоянно и прилюдно и за что попало: то тот не вовремя отнёс куда-то какую-то бумагу, то не в срок привёз какой-то материал, за который уже давно оплачено, то много прибавил газу в газовой колонке, а на дворе уже потеплело и это надо замечать и экономить хозяйские деньги, то не вовремя помыл бутылки и не подготовил их к заполнению каким-то раствором, которым журнальчик между делом приторговывал, то плохо закрыл хозяйский гараж и новенькую, совсем недано купленную вишнёвую "Ниву" могли похитить воры, которых нынче развелось пруд пруди, то запоздал с приездом на "Ниве" к хозяйскому дому, а уже полдень и давно пора быть на даче, то... В общем причин всегда находилась тьма и им не было видно конца. Саша всегда молча выслушивал хозяйские попрёки, вяло пытаясь как-то оправдаться, но больше искренне уверял, что сегодня он обязательно всё-всё сделает, отключит-подключит, убавит-прибавит, найдёт-привезёт. И быстро удалялся с хозяйских глаз "исполнять".
И вот в один из своих приходов в редакцию я стал свидетелем очередной такой взбучки по поводу неподготовленности к поездке в Тирасполь. На сей раз редактор самолично решил отвезти отпечатанный на кальке материал в типографию и заодно решить на месте кое-какие дела с руководством типографии. Назавтра уже надо ехать, а машина не помыта и не заправлена бензином! Саша пытался оправдываться, что всё давно подготовлено, что он ездил на заправку аж к Аэропорту, потому что там бензин дешевле, но тут же получил от шефа нагоняй, что нечего тратить зря хозяйский деньги и мотаться из центра города к Аэропорту, потому что по его редакторским сведениям чуть ли не в самом центре, у вокзала, есть заправка, где бензин ещё дешевле! "Вы же меня прошлый раз ругали, что я заправлялся на той запрвке и что там очень дорого и посылали на заправку к Аэропорту! " - оправдывался Саша. "А надо головой думать! - раздражённо крикнул в ответ шеф. - В мире всё меняется! Я вчера узнавал, и на этой заправке бензин подешевел!" "Да он подорожал на всех заправках! " - не унимался Саша. Но шеф был неумолим: хозяйские деньги просто выбрасываются на ветер! Тут я встрял в нескончаемую выволочку, чтобы как-то перевести разговор: жаль было этого спокойного и исполняющего все мыслимые и немыслимые указания шефа мужика.
-- А возьмите-ка меня с собой в Тирасполь! - попросил я редактора. - Мне нравится этот город. В прежние времена мы с женой частенько езживали туда просто посмотреть на город и на народ. Возьмёте?
Редактор недовольно перестал ругать Сашу и из вежливости повернулся ко мне.
-- Не знаю, - замялся он. - У нас там будет много дел...
-- Ничего, - настаивал я, - я вам не помешаю. Пока вы будете делать свои дела, я схожу в редакцию одной газеты. Мне обещали опубликовать в ней кое-какие мои вещи. А?
Редактор мялся и видно было, что он никак не находил предлога для отказа.
-- Ладно, - наконец сдался он, - приходите завтра к моему дому к восьми ноль-ноль. Оттуда и отправимся.
-- Хорошо, - согласился я, - заранее вам благодарен.
На следующий день ровно в восемь утра я был у порога дома, в котором проживал редактор. Дом, а скорее - домишко, хотя и находился в престижном районе города, но был небольшим четырёхэтажным строением, серым, грязным и обшарпанным, ровно таким же, как и примыкающий к нему двор. Посреди двора красовалась огромная, вся почерневшая от времени деревянная беседка с давно провалившейся крышей. Внутри беседки были свалены какие-то бумажные мешки, из которых торчал строительный мусор. В разных местах двора был разбросан какой-то хлам и сам двор больше напоминал то ли городскую помойку, то ли загородную свалку. Вот в этом-то домике у редактора и была небольшая квартирка, в которой он холостяковал вдвоём со взрослым сыном. Жена от редактора давно ушла и жила с дочерью в другом городе. Пришлось мне томиться часа полтора в грязном дворе, в котором и присесть-то было можно только на корточки. Да и то с риском, что на тебя неожиданно наедет какой-нибудь подслеповатый ветеран на своём подаренном ему бывшим государством полуразбитом драндулете. Редактор за это время вышел во двор только единожды, хмуро поздоровался, поглядел на весёлое солнышко, заливавшее ярким светом грязный двор и ещё больше нахмурился.
-- Этот человек так скоро не проснётся, - выдавил он из себя, имея в виду своего завхоза. - Хоть бы к обеду приехать на место...
-- Ничего, - весело ответил я, - посмотрите, какая погодка! Лето! Благодать божья! Доедем! Чего тут ехать-то!
-- Бензина съедим ого-го! - пробурчал редактор и отбыл в свою квартиру.
Я остался во дворе ждать завхоза, который должен был сначала проснуться, потом из своего дома направиться в гараж своего шефа, расположенный в другом конце города от места, где он жил, забрать там хозяйскую вишнёвую "Ниву" и прикатить в ней пред светлы очи своего шефа. Случилось это, как я сказал, ровно через полтора часа после моего прибытия к крыльцу дома редактора. Завхоз, как ни в чём не бывало, лихо подкатил прямо к крыльцу, вылез из машигы и подал, улыбаясь, мне руку. Поздоровались.
-- Чего так долго? - полюбопытствовал я.
-- Точно вовремя. Тютелька в тютельку. Как приказал шеф.
-- А мне он сказал, чтобы я пришёл ровно к восьми! Мол, надо ехать с утра пораньше!
-- Это он вам сказал на всякий случай, - расхохотался Саша. - Вдруг передумает со мной. Вдруг переиграет.
-- Да, но он же мог мне позвонить, что перерешил. Чего ж мне торчать здесь полтора часа!
-- Ещё чего захотели! Да у него каждую минуту семь пятниц на неделе! И все всегда виноваты! Перезвонить...
Ровно через минуту на крыльце появился, как ни в чём не бывало, готовый к дороге редактор с большим кожаным портфелем в руке. Словно он наблюдал за всем происходящим из-за полуоторванноой и висящей на одной ржавой петле двери, ведущей в тёмный подъезд.
-- Что ты так поздно приехал? - тут же принялся распекать он Сашу. - Небось, катался по городу! Жаль, не записал вчера показания спидометра...
- Да пробки на дорогах, - не вдаваясь в детали своего взаимоотношения с шефом, вяло отбился завхоз. - Вы же сами знаете...
...Приехали мы в Тирасполь почти к полудню: в пути Саша вёл машину точно по правилам дорожного движения, временами даже очень медленно. Никак не рисковал, не делал никаких обгонов, ехал ровно и больше жался к правой стороне дороги. Шеф машину водить не умел: стар уже учиться, а в былые советские времена имел своего личного шофёра, поэтому вся эта затея с вождением ему была ни к чему. Правда, был определённый период, когда власти, пытаясь показать себя в глазах Запада демократами, заставляли руководителей обучаться вождению и самим управлять персональными автомобилями, что одновременно давало возможность сокращать водителей, но нашего редактора горькая чаша сия миновала и он не успел дойти до такого унизительного состояния, чтобы самому садиться за вонючую баранку. Ну а сегодня он сам хозяин и имеет полное право самому за баранку не браться.
Уже минут через двадцать я понял причину столь правильного поведения завхоза на дороге. Шеф, как коршун, следил за его поведением и при малейшей прибавке скорости, начинал нравоучения, что машину де надо беречь, не дёргаться, бензин не пережигать, и не дай Бог, попадём в аварию, а машину только что купили. Ей ещё не положено по техническим условиям набирать большую скорость. А вдруг по дороге попадём на гаишника и придётся платить, а деньги-то не казённые... Так он гундосил всю дорогу до самого Тирасполя. Но это были ещё цветочки. А ягодки начались в самом Тирасполе.
Как я понял из разговора в машине, им надо было побывать в Тирасполе в нескольких местах. И как только мы заехали в город, редактор приказал завхозу ехать в какое-то заведение. Я города не знал и поэтому никак не реагировал на то, каким путём мы поедем. Саша молча повернул в ближайший переулок, но шеф его тут же одёрнул:
-- Куда ты повернул? Надо было прямо ехать, а потом - направо! А так намного дальше получится! Бензина нажжём!
-- Там поворот направо запрещён, - спокойно отреагировал завхоз.
-- Я там не видел никакого знака! - закричал шеф. Никакого знака! Поворачивай назад!
-- Там висит знак, - продолжая ехать вперёд, спокойно отвечал завхоз, - вы знак могли не заметить. Вы же не водитель.
-- Поворачивай назад, я тебе сказал! - переходя на крик, - зашумел шеф. - Делай, что тебе говорят!
-- Ладно, - безропотно согласился завхоз, - поворачиваю.
Он остановил машину и принялся разворачиваться. Переулок был узким и осуществить эту операцию с одного раза оказалось невозможно. Начался разворот по частям. Машину дёргало туда-сюда, взад-вперёд. Загудели недовольные водители, которые вынуждены были остановить движение своих авто из-за процедуры, затеянной шефом. В ответ на гудение шеф сильно занервничал и принялся громко кричать на завхоза, что тот даже машиной не умеет управлять.
- Как ты управлял коллективом, если с такой мелочью не можешь справиться? - кричал шеф.
Саша явно нервничал и с разворотом у него стало получаться ещё хуже. Машин в переулке набиралось всё больше и количество звуковых сигналов увеличилось... "С каким таким коллективом? " - удивлённо подумал я, с жалостью глядя на завхоза, который никак не мог развернуться на небольшом пространстве переулка, зажатый с обеих сторон гудящими автомобилями.
Наконец разворот получился и мы поехали по пути, указанному шефом. Когда подъехали к перекрёстку, на котором должны были повернуть направо, завхоз остановил машину и молча показал шефу на прикреплённый к бетонной опоре знак "Поворот направо запрещён". Увидя знак, шеф рассвирепел ещё больше:
- Что ты мне тычешь! Что ты мне тычешь! Я и сам вижу! Не слепой! Что же ты молчал! Что же ты полчаса разворачивался! Не было тут знака раньше! Я бы его увидел! Что ты мне тычешь сейчас! Надо было меня переубедить! А то жжёшь молча бензин и только! Все вы мастера пускать чужие деньги на ветер! Поехали прямо! А то опять станешь разворачиваться полчаса! Заедем в организацию...
Он сказал, в какую организацию надо заехать и мы поехали прямо. Но ситуация повторилась ровно на первом попавшемся перекрёстке: шеф снова дал команду ехать покороче, принялся ругать завхоза, что он специально выбирает дорогу подлинней, чтобы побольше сжечь бензина... Когда мы, наконец, добрались до первого места, в которое должен был зайти редактор, я весь кипел от ненависти к этому маленькому сквалыге и сильно жалел, что сам напросился ехать в эти Богом благославенные места. Меня уже ничто не радовало...
Мы остановили машину в тени большой акации на каком-то асфальтовом пятачке у задней глухой стены полуразрушенного дома. Неужели и сюда долетали снаряды? - удивился я, вспомнив о недавней войне, прокатившейся по Приднестровью, войне, которую официальные власти до сих пор стыдливо называют "конфликтом на ненациональной почве". Потный редактор, кряхтя, выбрался из машины и молча направился с портфелем в руке в трёхэтажное здание напротив. Мы с завхозом тоже выбрались на свежий воздух и подошли к акации, оставив дверцы машины открытыми. Жара стояла непосильная и только чьи-то куры стайкой молча бродили по полуразбитому дому и что-то себе клевали и клевали.
-- Что он так взъелся на вас? - не выдержав, спросил я у завхоза. - Ка вы всё это терпите?
-- А куда деваться? - вопросом на вопрос ответил он. - Куда сегодня денешься? Да ещё в моём возрасте. Слава Богу, что хоть это место есть и не даёт помереть с голоду мне и моей семье.
-- А у вас что нет никакой специальности? Кто вы по профессии?
-- Я? - он грустно улыбнулся. - Я такой же математик, как и вы.
-- Я? А откуда вы про меня знаете? - удивился я. - Откуда? Хотя, правда, город наш не очень велик...
-- Да вы приходили в наш Центр к нашему директору. Я вас там и видел. Ведь вы работали директором Центра... - он назвал предприятие, на котором я в своё время действительно работал. - А я у нас в Центре был освобождённым председателем профкома.
-- О-о-о! - снова удивился я. - Да вы были на уровне директора и даже выше! Как же с вами случилось всё это? - я показал на стоящую в тени "Ниву", как бы олицетворявшую собой его шефа.
-- Как и со всеми. Центр расформировали, я с остальными людьми оказался на улице. Работы - никакой. Да и возраст уже. Чуть с голода не померли с женой. Хорошо, что бышие товарищи по профсоюзу и по партии помогли устроиться в этот приватизированный журнальчик. Шеф-то - быший партийный деятель. Вот выполняю любую работу. Что прикажут. Вот, например, приедем сегодня домой и повезу его на дачу.
-- На ночь глядя?
-- Это обычное дело.
-- А дача-то далеко?
-- Да километров тридцать будет от города, да ещё три километра по сельской дороге в сторону от трассы.
-- Ну это не очень-то далеко. Часа через полтора вернётесь. "Нива" быстро бегает.
-- А причём тут "Нива" - удивился завхоз, - я назад - на своих двоих.
-- То есть кк-как это, - запнулся я.
-- Так он не даёт ехать назад на машине. Бензин экономит. Хорошо, если с дачи кто-нибудь в этот момент едет домой: подвезут до трассы. А там, если повезёт, на попутной уже добираюсь. За свой счёт, конечно. А вот прошлый раз так я в полночь добирался по просёлку впотьмах до трассы почти наощупь все три километра. И с попуткой повезло. Ждал всего часа полтора. Хорошо, хоть у нас тут волков нет...
-- Как же нет, - тихо сказал я, - у нас-то как раз и обитают настоящие волки...
________
1 гашка - шайка (рум.)
20.11.2004 - 06.01.2005 г.г.
"Шутки юмора"
Приключения бабушки Федосьи
Служил с нами в армии сверхсрочник старшина Борисов. Худощавый, небольшого роста, всегда подтянутый и аккуратно выглядевший, он был очень строг. Как и подобает старшине. Не признавал никаких шуток, считая их поводом к панибратству. На нас, салаг, смотрел с определённого расстояния и иногда, исключительно в воспитательных целях, снисходил до примеров из личной фронтовой жизни. Время было уже, как нам тогда казалось, почти свободное, хрущёвское, и мы явились в армию с коками под Элвиса Пресли. Причём с коками не только на голове, но и в голове: при малейшей возможности отращивали себе волосы подлиннее и особенно старались, чтобы подлиннее были волосы сзади, на шее. Чтобы шея и затылок не были голыми, выскобленными под ноль ротным парикмахером. Всё это очень не нравилось старшине Борисову и он, как мог, вовсю боролся с новыми веяниями с помощью обыкновенной школьной линейки, т.е. как всякий хороший солдат, он использовал подручные средства.
На каждой вечерней поверке он четко вышагивал перед строем в своих тёмносиних диагоналевых галифе, без единой маломальски видимой складочки на них, в зелёном офицерском кителе с ярко начищенными золотыми пуговицами, будто только что пошитом у лучшего портного и пять минут назад надетом на своего обладателя. Его до блеска начишенные хромовые сапоги с высокими голенищами издавали такой скрип, что все салаги старались не глядеть на свою часто просящую каши кирзу и от зависти сглатывали слюну. Тщательно выбритая борода старшины отливала тёмной синевой на строгом неподвижном смугловатом лице. Старшина медленно-медленно шагал перед строем и тщательно вглядывался в причёску каждого, стоящего в строю. Боксы и полубоксы он пропускал, не удостаивая их владельцев своего строгого взгляда. А вот если вдруг какая-то причёска на них не походила, старшину к ней тут же притягивало, как магнитом. Он тут же давал команду: "Рядовой такой-то выйти из строя!". Когда в ответ на эту команду из строя, чётко чеканя шаг, напряжённо выходил подозреваемый и после крутого уставного поворота "Кругом" оказывался лицом к строю, старшина приступал к делу: он медленно и торжественно глядя на строй, вытаскивал из внутреннего кармана своего безукоризненно сидящего на нём кителя белую школьную линейку, медленно подходил к стоящему перед строем и начинал линейкой вымеривать у него длину его волос по всей поверхности головы. И не дай Бог, чтобы в каком-нибудь месте этой глупой поверхности длина хотя бы одного единственного волоска была бы больше старшинской нормы в один сантиметр! Не дай Бог! Виновнику-свободолюбцу немедленно объявлялся внеочередной наряд на кухню, который должен быть отработан в увольнительное для всех время: в субботу или в воскресенье - время, когда менее свободолюбивые военнослужащие могли претендовать на самостоятельный выход в город до 22 00.
У нас в части подобрался в своём большинстве народ городской, зубастый, что сильно раздражало старшину Борисова: очень мы все любили качать свои права. Особенно старшину доставали ленинградцы - большие мастера задавать всякие-разные не нужные вопросы, рассказывать неуставные весёлые истории, ссылаясь при этом на участие в солдатской самодеятельности и подготовку в этой связи к какому-либо концерту. В такие минуты старшина сразу становился суровым и машинально лез в нагрудный карман за школьной белой линейкой...
В душе старшина Борисов считал самодеятельность баловством и поводом для отлынивания от самоподготовки, и при любом удобном случае старался посетить репетиции самодеятельности, куда, честно говоря, в свободные минуты сбегали не только её участники. В нашей самодеятельности участвовал один парень из Ленинграда по фамилии Рожко. Известен он был не только как рядовой, пытавшийся часто в обход устава постоянно отрастить себе заграничную причёску, но и как рассказчик одной весёлой истории, от которой все, кто её слышал, буквально покатывались со смеху. Эта история на любых концертах, сколько бы он её не рассказывал, всегда проходила "на ура". Старшина Борисов был наслышан об успехах рядового Рожко в самодеятельности, но сам никогда весёлого рассказа в исполнении Рожко не слышал. Да и не очень-то и хотел услышать: отношения с рядовым Рожко у него складывались натянутые, отчего последний постоянно ходил под угрозой загудеть в выходные на кухню. А всего-то и дел: ну постригись ты покороче да не задавай старшине разных городских подковыристых вопросов! Повыучились там по городам, пока остальные сидели под бомбами в окопах, а потом ещё по пять-семь лет дослуживали срочную!
Но однажды всё-таки произошло то, что и должно было произойти: старшина Борисов пришёл на репетицию самодеятельности, где рядовой Рожко должен был рассказывать свою смешную историю. Пришёл не из-за Рожко, а потому, что ему, старшине Борисову, надоело, что все сержанты роты, вместо того, чтобы заниматься воспитательной работой с личным составом роты во время самоподготовки, не спросясь его, самовольно ушли в актовый зал на репетицию этой злосчастной художественной самодеятельности. Это был очень большой непорядок, несмотря на то, что командир части разрешал такие мероприятия в часы самоподготовки. Но командир, он далеко, а старшина - вот он, совсем рядом и каждую минуту должен солдата воспитывать для повышения его боеспособности.
В общем, старшина Борисов оказался в актовом зале, где уже развёртывалось действо: рядовой Рожко играл старушку-рассказчицу, попавшую в смешную историю, а милиционера, по сюжету её допрашивающего, играл другой недруг старшины: ленинградец рядовой Доватор, внук знаменитого генерала-кавалериста Доватора, Героя Советсткого Союза, прославившегося в начале Великой Отечественной войны своими конными рейдами по тылам противника зимой 1941 года. Правда, длину волос на голове у Доватора-внука старшина Борисов линейкой никогда не измерял, не осмеливался. Да к тому же Доватор-внук солдатом был очень скромным и никогда не пытался завести себе неуставную причёску Но всё же старшина его очень недолюбливал, хотя неизвестно почему.
Спектакль в зале смотрели не только сбежавшие от старшины сержанты, поэтому улов у старшины Борисова обещал быть неплохим. Старшина тихо вошёл в зал через боковую дверь и осторожно примостился где-то в последнем ряду, чтобы не привлекать к себе внимания. Затем начал рассматривать в полутьме присутствующих. На сцене за столом сидели рядовые Рожко и Доватор. На голове у Рожко был сбитый набок длинный женский платок. Декорации показывали "приёмный покой" отделения милиции. Давая объяснения милиционеру-Доватору, Рожко страшно шепелявил, подражая беззубой старушке, а Доватор своим поведением изображал почти-что старшину Борисова. Вот что увидел и услышал старшина Борисов.
...Дежурный линейного отделения станции Верхние Пацюки сержант Суворый находился при исполнении и строго смотрел на сидящую перед ним только что доставленную постовым гражданку старческой наружности. Составлялся протокол на предмет задержания.
- Давайте-ка правду, мамаша. Расскажите всё по порядку: как именуетесь, откуда и с какой целью к нам прибыли и что делали на станции у вагонов.
Суворый приготовился записывать. Старушка тяжело дышала и жалобно глядела на сержанта.
- Мне бы водицы, сынок. Заморилась я, бегамши-то.
- Вы, мамаша, я извиняюсь, так дышите, что будто бегом (он сделал ударение на первом слоге) только что к нам припожаловали из другой области, - сострил Суворый, подавая бабушке алюминевую кружку с только что налитой из стоявшего на столе графина с водой. Затем графин с водой был аккуратно воодружён на своё законное место - на подоконник зарешёченного маленького окна кутузки.
- Из другой, милый, из ей, - тут же согласилась бабушка, едва отпив из кружки несколько глотков воды. - А может и ишшо из дальней. А у вас станция как зовётся?
- Но, но! Разговоры! - сразу посуровел дежурный. - Фамилия?
- Чаюковы мы, - быстро ответила старушка. - Федосья Лукьяновна.
Сержант медленно записал.
- Откуда прибыли? Только без этих там, понятно? - при этом он сделал свободной рукой какой-то неопределённый жест в пространстве. - Понятно? - грозно повторил для большей убедительности сержант, глядя прямо в глаза ёрзавшей на жёстком казённом стуле старушки.
- Понятно, понятно, без каких без энтих. Только без их никак невозможно, без энтих-то, сынок! - на глазах старушки навернулись слёзы.
- Гражданка Чаюкова! - быстро глянув в протокол и немного запинаясь на фамилии, прервал бабушку сержант. - Попрошу! Итак, откуда прибыли? - грозно повторил он свой вопрос.
- А ты не больно-то шуми! Молод ишшо покрикавать! Господи-и-и! - неожиданно разрыдалась старушка, - и за что Ты допускаешь такия издевательства над старым человеком! Да чтоб он, хворый, по областям мотался! Да чтоб он...
- Гражданка, гражданка! Попрошу конкретно! Не давите на слезу! Откуда прибыли?
- Что ты заладил, как довоенный патефон: "Прибыли, прибыли!" Из Лиходеев прибегла я (бабушка тоже сделала ударение на первом слоге, косвенно подтверждая сержанту, что она не шпионка, засланная из-за кордона), прибегла за паровозом завязанная! По причине заболеваемости зуба и зловредствия соседа моего Митьки!
- Как это прибегла? - в тон бабушке икнул сержант. - Как это прибегла? - продолжил он удивлённо. - Это же сколько десятков километров будет, мамаша? Вы что? Я же просил вас слёзно: "без этих"!
- Так я ж и рассказываю и чистосердечно признаюсь "без энтих самых" (сержант заметил, что бабушка сильно шепелявила и никак не выговаривала звук "ч", каждый раз заменяя его звуком "щ"). Вот слухай.
Иду это я сегодня, значить, утречком на базар. Внучику свому, Васе, яблочков, значить, купить. А зуб, лихоманка его подери, вдруг ка-а-ак заболить! Ка-а-ак заболить! Да так разболелся, что хуть плачь, а хучь сигай куды попадя! Иду и не ведаю, дойду ли жива до базара. Так разболелся, подлый! Иду, за щеку держусь, а слёзы из глаз так и капають, так и капають! А мне, в аккурат, чтобы на базар попасть, надо ишшо нашу станцию пройтить. Ну... ту... где эти...ну... поезда бегають.
- Да что же вас туда понесло, мамаша? Насколько я помню, базар-то у вас совсем в другой стороне! - Суворый подозрительно смотрел на старушку, отложив в сторону авторучку, которой писал протокол.
- Так я и говорю: зуб у меня страсть как болел, проклятый! Иду, а слёзы из глаз так и капають, так и капають! Господи! - заголосила опять старушка, - и за что муки такие! И что я такого греховного сотворила, Господи! И зачем...
- Стоп, мамаша! Стоп! Ближе к делу! Вас уже в другой раз не туда заносит! - сержант предупредительно поднял руку: - Прямее докладывайте!
- Дак я к свахе своей, Макарьевне, сперва хотела забежать. Дело у меня к ей было. Безотлагательное. Хотела по пути узнать: когда огурцы в банке засаливаешь, надо ли...
- Гражданка! -начал выходить из себя сержант, - гражданка! Отвечайте по существу вопроса! Значит, вы проходили через станцию. Так?
- Ох, сынок! Не дай Бог никому такого лиха! Не приведи Господь! Да... Иду, значить, я прямиком через станцию, а зуб... Да чтоб ты, думаю, подлый, из меня вылез, а у соседки моей, Кондратьевны, случился, прости Господи! Да у козы у её, у Варьки, вырос заместо тех зубов, которыми она весь мой огород попортила, стерьва!
- Мамаша! - прикрикнул Суворый, - мамаша!
- Да... - не обращая на сержанта ровно никакого внимания, продолжала задержанная. - Да... Вдруг слышу, что кто-то к-а-ак заорёть: "Что же это ты, Лукьяновна, поездам тут помехи устраиваешь? Что же это ты, бабка, удумала по путям ходить?" И ну поливать меня! Мать-перемать! Мать-перемать! Оборачиваюсь, а это Митька, Кондратьевны сынок! "Ох и порода у их, - думаю. - Ох и порода! Ни дома те спокою от их нету, ни на путях!" И чтобы как-то отвязаться от энтого оболтуса, вежливо кричу в ответ, мол, зуб у меня болить, мочи нету, а ты тут со своими поездами! А потом всё-таки не сдюжла (обидно было!) и выпалила: "Да вся родня ваша - гадкая! Даже коза Варька - и та стерьва подворотная! Нет, - говорю, - чтобы человеку в беде подсобить, так вы - огороды вышшипывать и хозяев задавливать!" Думала обидится, а он, щербатый, вдруг заулыбался: "Ну ты чего, энто, Лукьяновна! Подсобим, конечно, если беда имеется. По-соседски подсобим"... Слазить он тут со свого паровоза и протягиваеть мне проволоку..
- Погодите, мамаша, - перебил её сержант, - эту что ли? - Он указал на отобранный при задержании у старушки моток синего телефонного кабеля.
- Энту, энту! - залилась слезами старушка, - чтоб ему на ей на том свете висеть, проклятому! - сержант молчал. Немного придя в себя бабушка продолжила:
-- Да... Протягиваеть, значить, он мне энту проволоку и нежно
нежно так говорить: "Ты, Федосья Лукьяновна, обмотай, значить, мучителя твого энтой проволочкой, - и протягиваеть мне один конец мотка, - а другой конец привяжи к энтому... Ну, как его... по-ихнему... Ну... Да...да... к бухерю заднего вагона! Вот! Да, к бухерю, значить. Я, - говорить, - как только поезд трону, вагон энтот дёрнеть и зубу твому - конец!" Ну я так всё и выполнила: завязала всё как есть, стою и жду. Уж больно зуб мучил, проклятый!
- Эх, мамаша! Неграмотная вы! - сострадательно вздохнул Суворый.
-- То-то и неграмотная! Да кабы грамотная-то была, я бы Митьку
заместо себя привязала!
Слёзы вновь появились на её непросыхающем страдальческом лице.
- Да... - продолжала бабушка. - Митька тут залезаеть в свой дюзель да ка-а-ак дёрнеть! Вагон, за который я была завязанная, и меня вместе с им ка-а-а-к мотануло! Чуть бСшку мне совсем не оторвало! Что-то там даже сильно хрустнуло! Хорошо, что у меня шея была платком обвязанная, а не то бы бСшку точно оторвало вконец! А зубу - ничего! На месте мучитель энтот! Ему, проклятому, хоть бы хны!
-- Поезд потихоньку пошёл и меня за ним потянуло. А куда
денесси! Упираюсь, а иду. Думаю, Митька сейчас остановить. Думаю, это у поезда инерция такая, закон всемерного тяготения у его. Сейчас, думаю, остановить, отдохну маленько и пойду за яблочками на базар. Ан нет! Гляжу, начинаю постепенно на бег переходить! Вот проклятый антихрист! Придётся, думаю, побегать завязанной, пока зуб не оторвётся. А куда денесси? Видать крепко энтот зуб во мне сидить. Терплю... Так шашнадцать вёрст и отмахала! - неожиданно зарыдала старушка.
Сержант молчал, ничего не записывал и с состраданием глядел на бабушку.
- Устала бегамши-то, завязанная! Мочи нет! Пора бы уж поезду остановиться, а он всё прёть и прёть! Гляжу, а впереди уже какой-то город показался. А Митька жарить!
...Проскочили город и ещё три станции. Начала пробегать и ваши путя. Чувствую - всё. Дальше нельзя. Далековато меня занесло. Дай-ка, думаю, остановлюсь. Будь что будет. Помоги Господи и спаси! Кое-как набегу перекрестилась и... остановилась! И что ты думаешь? Так четыре вагона и отдёрнуло!
... Присутствующие в зале, как обычно, смеялись, но на лице старшины Борисова не дрогнул ни один мускул. Зажгли свет. Старшина молча поднялся со своего места и зычным, годами отработанным командирским голосом, приказал:
- Рядовые Доватор и Рожко! На выход!
И медленно полез во внутренний карман своего безукоризненного командирского кителя за белой школьной линейкой...
1974 г. Кишинёв
Совет в Фильках
Фефёлкин? Ты? Что? Ты, говоришь? Ну вот! Зайди! А? Да, да! Зайди, говорю! А-а! Ты уже здесь? А с кем я?.. Не зна... Ну ладно, ладно, садись. Фефёлкин, са-дись. Что? Не хочешь? За что "спасибо"? Да садись, тебе говорят! Культурный! Садись, садись, марькизь! Хх-ха! Кстати, знаешь, кто был этот марькизь? Что опять "спасибо"? Я же тебе ничего не даю! Культурный! Так вот. Этот марькизь был первым помощником Наполеона и Бонапарта. По письменной части, Фефёлкин. Остальное они сами там делали, а вот по письменной части... Никак. Понимаешь? Ты, кстати, Фефёлкин, как по письменной части? Что опять "спасибо"? Не Бонапарт, говоришь? Вот это уже хужее. Хужее говорю. Понял? А может ты хоть Наполеон? И не он... Да... Слушай, а что тебе у нас не нравится? Что ты всё пишешь, пишешь куда-то... Тринадцатую регулярно получаешь? Регулярно? А-а-а... Незаслуженно? А кто её заслуживает? То-то и оно! А с марькизем, который был по письменной части, знаешь, что сделали? Не знаешь? То-то и оно! В Москве оставили! Как только пожар начался, так они его там и... Понимаешь, Фефёлкин? Понимаешь? Вот... А сами того... К себе в свой город Париж кинулись. Правда, Бонапарт, тот в Березине утоп, а Наполеон, он добрался до самого Парижу. Да... А потом, как наш снабженец Федька, спутался с какой-то Еленой. Правда, говорят, что та была святая. Не как федькина стерва! Но всё равно его загубила. Да... Начисто загубила. Так что, Фефёлкин, советую: не марькизь больше. У нас, в Фильках, хотя Березины близко нету да и Ленку Федька заарканил последнюю, но пожары ещё случаются. И почище московских...
1977 г. Кишинёв
Аргумент
Небольшой городской дворик, прилепившийся на косогоре, круто спускавшемся к расположенному у его основания большому старому парку с разрезающим его почти пополам неглубоким ручьём и заросшим густым зелёным камышом продолговатым прудом. Некогда глухая окраина Кишинёва, а теперь довольно престижное место чуть ли не в центре города.
Во дворике находится небольшой полутораэтажный особнячок, в котором когда-то маялся его хозяин, моментально сбежавший за день до прихода сюда в 1940 г. русских в Румынию.
С одного бока, со стороны некогда шикарной каменной лестницы, спускавшейся прямо от улицы в парк, располагались бывшие хозяйские конюшни, также густо заселённые, как и сам особнячок, советскими людьми-квартиросъёмщиками.
Снизу, со стороны парка, дворик прикрывает череда одинаковых, покосившихся от времени и плохой послевоенной кладки котельцовых грязных сарайчиков со сбитыми кое-как из горбыля крохотными узенькими дверцами, недавно покрашенными в густой коричневый цвет.
Выход из дворика на улицу предваряют новенькие массивные гадючно-зелёного цвета помпезные железные ворота, тоже, как и покрашенные дверцы сарайчиков, недавно подаренные местным ЖЭКом вечно чего-то требующим жильцам.
Ровно посередине дворика, напротив ворот, находится достижение современной городской канализационной мысли - зловонная выгребная яма, кое-как прикрытая горбатой крышкой, наспех сбитой из нетёсанных сосновых досок. Запах выгребной ямы причудливо перемешивается с ароматом двух белых акаций, устало отцветающих за каменным туалетом, прилепившимся за последним сарайчиком, почти рядом с бывшими конюшнями, в которых теперь обитает чета врачей со своими престарелыми родителями и отпрыском Сашэлэ, годами играющим бесконечные гаммы на стареньком пианино и сводящим с ума своим усердием с раннего утра до позднего вечера весь жилколлектив. Пока родители лечат горожан, бабушка тщательно следит за здоровьем своего внука, так что Сашэлэ почти всё лето носит на голове матерчатую чёрную шапочку с ушами, уши всегда опущены и завязаны шнурками-тесёмочками под подбородком. При этом на руках у Сашэлэ всегда мягкие варежки. И всё это делается только ради того, чтобы Сашэлэ, не дай Бог, не повредил и не застудил летом свою гениальную голову и свои не менее гениальные руки. Бабушка знает, что делает. Она твёрдо уверена, что её внук станет выдающимся пианистом1 .
Утренняя субботняя наступающая жара. Жара не только от раннего, но уже яркого солнца, но и от терзающего душу визгливого воя раскалённой добела циркулярной пилы, укреплённой на небольшом постаменте из крепких деревянных чурок почти рядом с выгребной ямой и распыляющей запах этого чуда во все уголки маленького дворика. Тщедушный мужичонка, искривленный грузом прожитых лет, как старое высохшее дерево, в истрёпанном грязного цвета длинном до пят халате, в крупных мотоциклетных очках на маленьком сморщенном лбишке и в помятом и обсыпанном крупными жёлтыми опилками чёрном берете на яйцевидной головке с огромным чурбаном в маленьких цепких руках яростно атаковывал бешено вращающуюся циркулярку, издававшую при этом звуки, способные поднять мёртвого из могилы.
Жильцы особнячка, которых в нём было напичкано, как тараканов в кухонном столе, движимые обычными человеческими потребностями, выходя во двор из своих комнаток-казематов с мыслями о приятном предстоящем выходном, тут же затыкали пальцами уши и удалялись в свои обиталища. Закрывались окна. Захлопывались двери. После этого наиболее смелые снова появлялись во дворе, стараясь хоть как-то усовестить распиловщика-соседа, но тот на них никакого внимания не обращал и, войдя в раж, ещё неистовее бросался в атаку с очередным поленом на раскалённую пилу, отчего та тут же начинала доставать окружающих аж до печёнок.
Время шло... Уже в незадёрнутых шторками окнах квартир начали мелькать перевязанные полотенцами головы наиболее нестойких жильцов и тревожные лица их родных и близких, уже новые железные ворота, всегда густо покрытые серой дорожной пылью от проезжающих ежедневно мимо них тысячи раз автомобилей и троллейбусов вновь сильно-сильно позеленели, уже дворовый пёс Бобик устал грызть свою сахарную кость, добытую им ещё накануне вечером где-то в одному ему известных помойных дебрях, уже даже Сашэлэ перестал гонять свои, сводившие всех с ума, виртуозные гаммы, уже... В общем, оказалось, что и солнышку давным давно всё это надоело и оно стало прятаться за крону огромного дуба, росшего внизу прямо за сарайчиками... Но шум всё не стихал... И вот тогда посреди дворика появилась Софэлэ, мама Сашэлэ. Вся заспанная после ночной смены на "Скорой помощи", в которой она работала, в наспех накинутом на сильные крутые плечи минихалатике, сквозь который слишком явно проступали все неровности её спокойной мощной фигуры и отчего она сильно смахивала на перевязанную в нескольких местах огромную докторскую колбасу за два двадцать... Софэлэ была темнее тучи. Медленно подойдя к распиловщику, она, не повышая своего крепкого контральто, обратилась к нему:
- Миша!
Миша услышал! Он тут же отошёл на полшага от пилы, но полена из рук, на всякий случай, не выпускал и вопросительно глядел на Софэлэ сквозь густо залепленные крупными желтыми опилками мотоциклетные очки.
- Миша, - медленно повторила Софэлэ, - ты завтра тоже будешь так живодёрничать и пилить тую полену?
- А что? - риторически спросил Миша, осторожно ставя возле себя чурбан на землю и медленно снимая очки, чтобы лучше общаться с Софэлэ. - А что? - повторил он свой вопрос несколько твёрже, - не имею права?
- Миша, - сказала Софэлэ, - я завтра пойду на базар за живыми курями. И если ты, Миша, будешь ещё пилить эту несчастную полену, когда я приду с базара, то я, Миша, повешусь.
И Миша сразу уступил. Он уважал Софэлэ. Нет, совсем не потому, что он раз в пять по массе был меньше, чем Софэлэ. Нет! И не потому, что Софэлэ держала в своей пухлой лапище за квадратную ножку высокую белую табуретку. Нет! Он просто, как всякий мужчина, уважал уже сильные аргументы...
1975 г. Кишинёв
__________
1Бабушка оказалась права: Сашэлэ действительно стал знаменит: окончил Московскую консерваторию, вернулся в Кишинёв и преподавал в местной консерватории, одновременно давая сольные фортепианные концерты. Но дальше районных центров его в описываемые времена не пускали. Он как-то исхитрился через своих московских преподавателей попасть на несколько международных конкурсов, на которых занял первые места. Вскоре после этого он наконец-то попал на гастроли в Италию, откуда не вернулся и переехал в США. Оттуда он, получив широкую известность, стал гастролировать по всему миру. Только после обретения Молдовой независимости, его усиленно и любезно стали приглашать на родину выступать, что он неоднократно и делал. Причём приглашения рассылали те же деятели от культуры, которые его в своё время никуда "не пущали". (Б.П., октябрь, 2004г)
Говорят...
Слыхали? Говорят, планета-то наша перегревается! Все эти фабрики-заводы, пароходы-самолёты... И все - в неё, в родную. В атмосферу, то есть. Опять же, люди. Народищу-то стало! Матушки-светы! Не протолкнуться! И от каждого... Понимаете, да? Жизнедеятельность, в общем. Никуда не денешься. Подсчитано, что на четыре градуса поднялась крепость... То есть эта... Температура тепла! Да! Температура тепла!. Представляете? Это всё равно, что против обыкновенного пивка взять на грудь такую же мензурочку красненького. Без закуси, разумеется. Ага. Или, к примеру, сидеть на балете "Антоний и Клеопатра", когда герой интимно поддерживает героиню за определённое место...Да-а-а...
Хотя оно непонятно: один знакомый рассказал мне, что разные там ракеты-спутники делают в атмосфере дыры. Ракет-то нынче столько понавыпускали, что атмосфера, поди, что твоё сито. Но отчего же тогда лишние градусы через эти дыры в космос не испаряются? Непонятно... Кстати, из-за этих самых дыр у нас на юге многое переменилось. Ага. Космические лучи стали и к нам проникать! Ох, как проникать стали! И кого они хоть как-то заденут, всё! Тот уже... Понимаете, да? Недавно попали в одного моего соседа. Милые вы мои! Он, как только облучился, сразу перестал узнавать всех! Даже своих родных! Ага. Тут же отселился жить к таким же, как он: к облучённым. А ходить-то, ходить-то стал совсем плохо! Всё больше его возят на спецавтомобиле. Ага. Вроде как скорая помощь. И автомобиль-то - чёрный! Ага. Ужас! Чернющий такой! Как ворон! Ага. Одни страсти!
Да что там говорить! Вот у меня дома - собачка. Ага. Болоночка. Раньше животное было, как животное. Что ему природа положила, то оно и делало. Ага. Дом-то у нас старый. Дворик есть, сараи. Главные удобства тоже тут же рядом, во дворе. Ага. В углу двора, если смотреть с крыльца. В общем, всё, как положено. Все, как у людей. Власть же о нас беспокоится. Ага. Раньше, бывало, встану рано. Милые вы мои! Красотища-то! Только дверь открыл, болонка мимо меня - пулей во двор. Ага. Сам же не спеша, солидно следую за ней во двор в главные удобства. И она бежит по своим маленьким собачьи делам. Ага. Выхожу из удобств облегчённый, радуюсь: собачка бегает, резвиться. Травку ест, когда - лето, или в снегу барахтается, когда - зима. Ага. После побежит побрехать на проходящий прямо за воротами троллейбус...
А нынче что? Чую, что и на мою собаку подействовал космос через эти самые дыры. Облучилась! Вот беда стала! Утром уже давно мне следует на работу бежать, а я эту стерву всё никак не могу поднять с её подстилки! Ага. Якобы дамочка спят. Ага. И делают вид, что крепко. Начинают похрапывать даже, когда я, встав перед ними на коленки, пытаюсь униженно заглянуть в их хитро прищуренные глазки, прячащиеся под спутанными ото сна белыми прядками волос. Ага. Чем больше я им рассказываю о прелестях занимающегося дня, о пробуждающейся природе, о текущей мимо наших ворот Амазонке транспорта, который проходит потом почти через нашу кухню, чем больше повествую о поголовном стремлении советских граждан побыстрее выполнить очередную пятилетку в четыре года, о причинно-следственной связи в природе и обществе, о воспитанности, наконец, чем больше я при этом распаляюсь, тем громче храпит это малосознательное животное! Ага. Время идёт и потому я вынужден физически побеспокоить Их Высочество: осторожно дую в распластавшееся во сне розовое ушко. Ага. В ответ начинают рождаться такие звуки, будто кого-то или что-то медленно заводят. Влажный чёрный носик Их Высочества начинает недовольно морщиться, едет немного к закрытым глазкам, обнажая при этом плотно стиснутый ряд ровных крепких белых зубок, ограниченный по краям парой острых желтоватых клычков. Оказывается, мы очень недовольны! Мы не любим, когда нас по утрам беспокоят! И при этом дуют нам в ушки! Ага. Ладно. Применяю другой приём: быстро сдёргиваю тёплую мягкую попонку, которой мы на ночь укрываем эту соню, и мгновенно отскакиваю к входной двери. Гнев Их высочества мгновенно перерастает в гнев Их Величества: меня тут же грубо облаивают и страстно гонятся за мной, яростно хватая зубками за брюки до тех пор, пока я пулей не вылетаю во двор. А собака дальше крыльца - ни ногой! Ага. Успокаиваясь, садится у порога и устремляет на меня свой остывающий взгляд. Ага.
Делать тут нечего. На работу почти опоздал. Поэтому - пулей в главные удобства. Когда выбегаю назад из главных удобств, преданно ищу глазами собаку. А та, как ни в чём не бывало, сидит себе на крылечке. И строго так, недовольно смотрит на меня: то ли оттого, что задержался в главных удобствах больше положенного, то ли ещё отчего. Следит. Я просительно зову её к себе: время же идёт, а её надо перед работой вывести! Но собака даже бровью не ведёт. Ага. Как я начинаю тут подхалимничать! А что делать? Я начинаю вихрем носиться по двору, призывно размахиваю руками, делаю вид, что ем травку, если - лето, или барахтаюсь с упоением в снегу, когда - зима, резво выбегаю за ворота громко побрехать на проходящий троллейбус... Ага. Собака молча с крыльца наблюдает за моими мотаниями. Когда уже глаза лезут, что называется, на лоб от усталости, и я почти на карачках вползаю в квартиру, это необразованное животное степенно входит за мной с сознанием добросовестно исполненного собачьего долга и с чувством полного отмщения укладывается в ещё тёплое кресло на подстилку досыпать. Ага. И так каждое утро! Вот вам и безобидные дыры в атмосфере! Говорят, что скоро вообще наступит конец света...
1978 г. Кишинёв
Нервная жена
"Сегодня в шесть утра жена уезжает на курорт. Лечить нервы. Сегодня в шесть утра жена уезжает на курорт. Лечить нервы. Се..." Стоп! Что это со мной? Я потихоньку начинаю приходить в себя после липкого сна. Открываю глаза. Светает. Понимаю, что будильник вот-вот пойдёт вразнос, но дотянуться до него нет никаких сил. Закрываю глаза и снова погружаюсь в сладкую дрёму. "Сегодня в шесть утра жена уезжает на курорт. Лечить нервы". Боже мой! До меня, наконец, дошёл смысл мучивших меня во сне слов и я, как ужаленный, подскочил с кровати: проспали! Жена, как ни в чём не бывало, сладко спала, подложив обе руки себе под голову. Будильник, задыхаясь, начал уже хрипеть, а из-под кровати вовсю радостно лаял наш пёсик Карлушка.
- Ну-ка замолчи! - шепчу я Карлушке и бросаю в него попавший под руку коробок спичек. - Замолчи!
Карлушка налету хватает коробок, тут же заученно доставляет его мне и ещё громче заливается.
- Боже мой! Ещё только четыре утра! Тише, Карлушка!
Лёжа ещё в постели, я пытаюсь схватить собачонку за что-нибудь, но та, выгнув спинку горбиком и задравши свой куцый хвостик, моментально отпрыгивает в сторону и с громким лаем начинает носиться по комнате. Я, не удержавшись от резкого движения, сваливаюсь с кровати на пол, перевернув по дороге прикроватную тумбочку с хрипящим на ней будильником. Сразу же послышались звуки за стеной у соседей: они начали кричать, стучать в стенку и вспоминать про чью-то мать...
Четыре утра. Жена спит. Сегодня в шесть утра она уезжает на курорт. Лечить нервы. Собачка совсем расшалилась: наскакивает на меня, как на добычу и яростно лает. Я бегу на кухню, хватаю большущий таз для выварки и, изловчившись, набрасываю его на вконец очумевшего от собственного лая Карлушку. По стене продолжают бить чем-то тяжёлым. Жена спит. Ей сегодня в шесть утра ехать на курорт. Лечить нервы. Подхожу к ней. Трясу за плечо.
Маша, вставай. Пора! - Трясу ещё и ещё.
- Ку-мм-му? - не раскрывая рта, вдруг произносит жена и начинает сладко похрапывать.
- Тебе пора! Тебе! Вставай! Надо ехать лечиться!
- Ку-мм-му? - неожиданно прерывая громкий храп, спрашивает жена и тут же переворачивается на другой бок. Тут из-под выварки выбирается Карлушка и снова начинает носиться по комнате и заливисто лаять. Ловить его уже некогда: половина пятого, а в шесть жена уезжает на курорт лечить нервы. Соседи, слышу, начали за стенкой назло крутить сирену.
- Маша, - снова резко трясу жену за плечо. - Маша, вставай же, в конце концов! Поезд ведь уйдёт! Будет плохо!
- Ку-мм-му? - и снова неистовый храп на другом боку.
За окном что-то загудело. Подбегаю и вижу: это пенсионерка Унюхина чешет вниз по водосточной трубе со своего третьего этажа. Одной рукой за трубу держится, а в другой у неё раскрытый зонтик: на случай возможного отрыва.
- Что случилось, - кричу, высовываясь из окна, - мамаша? Что там произошло?
- Пожар! - сообщает она мне хрипло уже почти снизу. - Пожар! Слышь, вон как сирена-то воет!
Выла соседская сирена. Жильцы дома дружно следовали примеру бабушки Унюхиной. Тут я не выдержал:
- Стойте! - закричал я, высунувшись в окно, во всю мощь своих лёгких. - Граждане! Остановитесь! Это - не пожар! Это - Маша спит. Сегодня в шесть утра она уезжает на курорт! Лечить нервы!
1978 г. Кишинёв
За ...ся
По своей природе я человек очень неорганизованный. Другим жёнам такой муж - обыкновенное дело: дала, к примеру, в руки пылесос, озадачила и действуй. Ты прошёлся крест-накрест, для скорости, щёткой по ковру, повозил щёткой кое-как по полу и нетерпеливо кричишь: "Закончил!" Она тебя тут же организует на другую домашнюю работу: мол, давай сними ковёр. Потом суёт тебе в руки выбивалку и выпроваживает во двор. Всё сама организовывает. Спокойно. Выдержанно. Культурно. При этом в семье - порядок, мир, согласие.
Но моя супруга - другого нрава. Начитанная. Учёная. Однажды вычитала в газете, что в наше техническое время даже машину обучают, а не то, что там тебе собачек или, скажем, коров. Раз уж наука таких высот достигла, рассудила жена, можно применить научные методы не только к корове, но и, скажем, к мужчине как таковому. В частности - к мужу. Заманчиво! Например, приходит муж с работы и сам, безо всяких напоминаний, переодевается во всё домашнее, затем опять же без подсказок берётся за... Да что там говорить! Заманчиво!
И вот где-то по большому блату она приобрела рукописную "Методику приучения мужчины ", взяла на работе за свой счёт отпуск на две недели и принялась за изучение методики. Не прошло и семи дней, как с её стороны я начал подвергатьсся воздействию с помощью научного метода: теперь каждый день, приходя с работы, я под строгим присмотром и на научной основе менял одни брюки на другие, туфли - на тапочки, носки в клеточку - на полосатые. Правда, не всегда точно удавалось выполнить всё так, как требовалось по Методике. Тогда жена начинала выходить из себя и обидно кричала: - В отношении таких, как ты, даже наука бессильна! Субьект!
- Если по науке, то для тебя я - объект, - пытался поправить её я.
- Ну вот смотри, ты разве в своём уме? - распалялась она. - Ну, куда ты опять поставил свои грязные тапочки?
...Обучение шло трудно. Без передышки. Выходные были отменены: жена нажимала на интенсификацию...
Однажды в очередной понедельник, начинённый выводами о здоровом влиянии голубых подтяжек на семейный микроклимат, я неуверенно отправился на работу, провожаемый недобрым взглядом своей супруги: я не успевал по всем предметам, отчего обе стороны несли ощутимые потери. По ночам я уже часто вскрикивал, плохо спал и иногда, чтобы как-то забыться, вставал и ставил пластинку с песней, кажется группы "Пламя": "Не надо печалиться: вся жизнь впереди. Вся жизнь впереди. Надейся и жди". Пластинка пела, а я садился бриться в какие-нибудь три часа ночи: а чего зря время терять! Жена же перед рассветом принималась звать кого-то на помощь и издавала звуки, похожие на тех, которыми заклинают змей...
На работе понедельник есть понедельник: оказалось, что уборщица тётя Феня перепутала на моём столе все бумаги. Но как только я принялся приводить их в порядок, как на грех, меня срочно вызвала к себе начальница и велела принести именно тот документ, который я никак не мог обнаружить в этом бедламе. И всё из-за этой тёти Фени, мать её...Я собрал на всякий случай все бумаги со стола, сунул их наскоро в подвернувшуюся под руку папку и рысью отправился по срочному вызову. Начальница сидела за столом и что-то быстро писала. Я вежливо поздоровался.
- Ну, как наука? Бессильна против вас? - Не поднимая головы и продолжая быстро писать, спросила меня начальница. В кабинете было тепло и уютно. Пахло чем-то знакомым. По-моему, чем-то близким, домашним...
- Наука? - автоматически переспросил я и... принялся тут же быстро раздеваться. Ровно через тридцать секунд точно в соответствии с "Методикой приучения мужчины" я стоял перед начальницей в одних семейных в синюю полосочку трусах и в простых, наскоро, на очередных занятиях с женой, заштопанных самим серых носках. Моя "рабочая одежда" была аккуратно сложена на краю сверкающего импортным лаком стола заседаний. Светлые туфли с просунутой вовнутрь (чтобы не морщились) бумагой, взятой из принесённой мною папки, были интеллигентно поставлены у входной двери носками к стене. Подмышкой я держал свою папку и ел глазами начальницу.
- Прошу! - громко сказала начальница, кивнув на стул, стоящий рядом с ней и медленно подняла на меня свои каштановые холодные глаза. Я, скромно поблагодарив за приглашение, медленно и с достоинством отправился по указанному мне адресу.
- Вы в своём уме? - услышал я по пути следования. Я тут же остановился и, как учили, всё тщательно проверил: всё было сделано в соответствии с Методикой. - Ну и субъект! - донеслось до меня.
- Для тебя я - объект! - начал было по привычке я, но вдруг понял, что неправ: забыл переменить носки на домашние!
1979 г. Кишинёв
Цирк
Вам никогда не приходилось работать в цирке? Нет, нет, не артистом! Обыкновенным смотрителем за животными! Кому приходилось, тот знает, а уж кому не довелось, скажу, что от смотрителя до любимца публики - всё равно, что от великого до смешного: ровно один шаг. По крайней мере, это утверждает один мой знакомый смотритель, который однажды попал вот в какую историю.
Случилось это ещё на заре его служения искусству. Работал он в цирке смотрителем группы дрессированных собачек. Всё бы ничего, да вот не заладилась у него дружба с ведущим солистом этой собачьей артели неким бобиком Б. По своей юной неопытности, не ведая о почти канонической злопамятности друга человека, мой знакомый имел как-то неосторожность, будучи сильно не в духе, хватить всеми глубоко почитаемого бобика Б. обыкновенной вульгарной шваброй по его сановитому загривку. Вот именно с этого-то момента их дружеские взаимоотношения заметно ослабли. Бобик Б. не упускал ни малейшего случая продемонстрировать моему знакомому высоту своего положения в цирковой иерархии путём подлых укусов в присутствии знаменитейшей и влиятельнейшей в цирковых кругах своей патронессы. После очередного подкожного действия, бобик Б. становился самСй детской невинностью и даже более того - выглядел совсем-совсем униженно-виноватым, что тут же демонстрировал путём поджатия своего куцего хвостика: старался всячески подчеркнуть, что принял, де, вначале моего знакомого за обычную нецирковую собаку, а потом, де, стыдливо и виновато удостоверился в обратном...
- Какая умница! - говаривала в таких случаях собачья патронесса моему знакомому. - Посмотрите, всё-таки догадался, кто есть ху (она изредка посещала краткосрочные курсы английского перед каждым выездом за рубеж). Ведь как устаёт, бедняжка! Эти бесконечные аплодисменты... А вам, дорогой мой, я сегодня же распоряжусь, чтобы выдали новые штаны. Уж вы нас извините великодушно за такой пассаж!
В течение всего периода времени, покуда произносилась эта покровительственно-разъяснительная речь, бобик Б. был сама ангельская невинность. Более того, вся его фигурка и в особенности его чёрные глазки-сливки выражали ни с чем не сравнимую глубокую скорбь о содеянном. Иногда казалось, что он может вот-вот издохнуть на глазах у всех от своей вины за содеянное. Окончание же речи собачьей патронессы всегда и незамедлительно венчалось со стороны бобика Б. одной и той же привычной процедурой: он торжествующе подбегал к ближайшему неподвижному предмету и задрав свою кривую лапку, оставлял на предмете метку о своей очередной собачьей победе.
Вы думаете, что мой знакомый оставался в долгу? Ничуть не бывало! Перед особо ответственными выступлениями бобика Б. мой знакомый подмешивал в пищу солиста крутого слабительного, отчего у того прямо на арене случался полнейший конфуз, а его патронессу после этого долго отмывали душистым шампунем. Вот не заладилась дружба и всё тут! Ну что поделаешь!
Потихоньку подрывая престиж бобика Б. у доверчивой публики, мой знакомый и не подозревал о существовании могущественных цирковых сил, особенно проявлявших себя в моменты, когда возникала любая угроза цирковому представлению. Однажды случилось так, что в ответ на очередной недружественный выпад бобика Б. мой знакомый подмешал тому в пищу полагающееся по такому поводу слабительное. Да видать несколько перестарался. То ли оттого, что очередной выпад против моего знакомого бобику Б. особенно удался, отчего моего знакомого переполняли чувства вполне определённого содержания, нарушившие его способность различать разницу в объёме между четвертью стакана и четвертью бутылки из-под "Столичной", содержимое которой мой знакомый всегда использовал исключительно только в профилактических целях против собачьего бешенства, то ли по каким другим уважительным причинам, во всяком случае зазнайка бобик Б. начал конфузиться задолго до начала своего сольного номера на арене, чем, естественно, рано обнаружил до сих пор удачно маскировавшуюся угрозу срыва представления.
Администрация цирка забила тревогу. Публика ещё легкомысленно веселилась в своих креслах, предвкушая близкий смех и очередные удовольствия, абсолютно не ведая о неприятности, случившейся с её постоянным любимцем, мой знакомый не менее легкомысленно упивался всем происходящим с его заклятым врагом, но администация цирка уже приняла решение. Машина спасения номера была приведена в движение.
Знаменитый маг и волшебник Лаврентий Ш. вызвал чуть ли не с того света дух не менее известного в своё время исследователя австралийской фауны сэра Кунгуройда З. Абсолютно не прикрываясь никакой цыганской шалью, маг Лаврентий Ш. одним поворотом своих поросячих глазок вогнал дух Кенгуройда З в плоть ничего не подозревавшего и потому воспринявшего всё, как должное, сторожа цирка деда Авраамия Ж. Дед Авраамий Ж., крякнув, видимо от произошедшего с ним перевоплощения, увидал себя посреди австралийских степей сэром Кенгуройдом З., скачущим на цирковой пони за двуногим существом, сильно смахивающим на моего знакомого. В правой руке исследователя фауны в вызывающе блестящих лучах австралийского солнца с достоинством поблёскивала орденоносная двустволка тульского оружейного завода. Исключительно ради науки сэр Кенгуройд З., он же дед Авраамий Ж., разрядил свою двустволку в привычное для него место представителя туземной фауны с целью парализовать волю последнего, что ему, как обычно, легко удалось.
После этой рискованной операции маг Лаврентий Ш. почти без усилий удалил из плоти деда Авраамия Ж. дух сэра Кенгуройда З. Пока изумлённый зал приходил в себя, дед Авраамий Ж. успел пальнуть из двустволки в хорошо знакомую ему часть стоявшего неподалёку от него директора цирка и точно парализовал его волю, отчего директор цирка не своим голосом пообщещал лично деду Авраамию Ж. прогрессивку за второй квартал. Когда же настал черёд выйти на арену безвременно оконфузившемуся постоянному любимцу публики бобику Б., под сводами цирка загремело: "Знаменитейшая дрессировщица Изабелла Г. со своим двуногим другом!". И на арену вынесла себя, расточая налево и направо приклеенные улыбки, патронесса собачьей артели. За ней на коротком поводке еле поспевал мой знакомый с парализованной волей...
1979 г. Кишинёв
На южном базаре
Кто не наслышан или не знает о наших, южных, базарах! Жарища... Всё, что может плавиться - плавится. Всё, что должно выдержать это пекло, напоказ красуется на прилавках, в крестьянских повозках, на машинах, на лотках. Скопища покупателей, медленно, несуетливо движущихся по какому-то ещё не открытому учёными рыночному закону. Словно приливы накатываются на бастионы из арбузов, дынь, винограда, помидоров, кукурузы...
Чем только не богата наша южная земля! Всё, что попадается на пути, тут же трогается, ощупывается, безо всякого спроса пробуется. Под таким напором овощные и фруктовые крепости начинают сдавать и к великой радости их защитников - таять. Каждый базар живёт своей духовной жизнью. Жарища...
- Пирожки горяченькие! - несётся сквозь густое марево терпкого базарного духа, смешанного с разноголосым гомоном. - Пирожки горяченькие!
- Может чего холодненького найдётся? А то скоро стану, как твой пирожок! - патлатый хлопчик в голубой тениске старается зацепить делающую строгое материально-ответственное лицо конопатую девчушку-лоточницу. - На солнце подогрела вчерашние пирожки? - наступает клиент.
- Я дико извиняюсь, где тут водички попить? - массивная фигура с красно-коричневым в крупных каплях лицом оттеснила парнишку, вызвав небольшую тень недовольства на конопатеньком личике хозяйки горячих пирожков.
- Имея такую фигуру, за водой вам надо ехать двадцатым автобусом на водохранилище в Гидигиче, - вмешивается проходящий мимо под конвоем своей жадно доедающей малосольный огурец многопудовой супруги тщедушный мужичок, тяжело гружёный двумя огромными сетками красных помидоров и туго чем-то тяжелым набитым зелёным рюкзаком за худыми плечами. - Вон той ёмкости, - он кивает на видневшуюся у входа в павильон "Рыба" жёлтую цистерну на резиновых колёсах с утоляющей надписью "Пейте много!" - может и не хватить для приличногабаритного человека!
- Вам с сиропом да или с сиропом без? - слышится вдруг совсем рядом и обрадованный услышанным "габарит" начинает продираться сквозь толпу на спасительный голос.
- Ну, ты и юморыст! - супруга круто поворачивается к своему носильщику. - Надо же! Не трать зря энергию! До ближайшего троллейбуса ещё целый квартал! Не дотянешь! Го-сс-по-ди! Другим бабам просто за так достаются такие вот! - она безнадежно глядит вслед гонимому жаждой и ненароком своим видом задевшего её за больное крупногабаритному мужику. - А тут... - И ожесточённо хрустит огурцом.
- Я спекулянтка? Я спекулянтка? - неподалёку, перегнувшись через разложенные на потрескавшемся дощатом прилавке небольшими кучками вялые, с сильно побитыми боками бледнозелёные сливы, неопределённого возраста дородная торговка пытается достать своей ручищей испуганно отступающую от неё старушку. - Да где ж это видано, чтоб заслуженного рядового труженика нагло обзывали такими заокеанскими словами! Не мои сливы! Ха! Если у меня невестка трудится в овощном магазине, так я должна в другой город ехать торговать? Спекулянтка! Да чтоб ты...
- Эй, девушка! Куда же вы? Постойте! Не хотите покупать? Не надо! Я угощаю! Бери, сколько хочешь! Не жалко для такой красавицы! - обладатель целой горы винограда догоняет и держит за рукав яркожёлтой сорочки кого-то в джинсах. - Ты - не девушка? А кто? ... А каблуки? Что? Я - деревня? Так ты же - с завивкой и маникюром!
Эй, малый! А ну перестань поедать зря добро! - продавец винограда бросается назад к своему прилавку, оставив модного парня в джинсах. - Что, кисленького хочешь? Слушай, ты кто? Ты - "захотел" или "захотела"? Что? Почему пристаю? Эй, девушка! Куда же вы? Постойте! Не хотите покупать, не надо! Я угощаю!..
Жарища... Всё, что может плавиться - плавится...
1980 г. Кишинёв
Оборотень
В одной из гостиниц провинциального города N был случайно обнаружен труп оборотня. Событие это, бывшее целую неделю в центре внимания неизбалованных сенсациями местных жителей, теперь уже за далью времени нам кажется не столь значительным. Но в тот год оно наделало немало шума. Прибывший первым по вызову на место происшествия врач "Скорой помощи", едва войдя в номер и не будучи ни о чём предупреждён заранее, чуть было не наступил на небольшую серую дохлую крысу, давно видать остывшую в неудобной позе почти у самого порожка. "Однако же!" - буркнул себе под нос доктор, брезгливо переступая через неожиданно возникшее препятствие. Войдя в комнату и достаточно осмотревшись, он поднял свои удивлённые глаза на сопровождавшего его сухонького, с лихорадочно блестевшими глазами старичка, Филиппыча, администратора гостиницы, колодой застрявшего почему-то по ту сторону порожка.
- Так где же он, Филиппыч? - осторожно спросил старичка доктор. - Где же труп, о котором ты благим матом так вопил в телефонную труку? Полкассеты мы на тебя истратили при теперешнем-то дефиците! Ну? - после непродолжительной паузы снова спросил ещё вкрадчивее доктор, отчего Филиппыч мгновенно вспотел и у него, похоже, случилась крупная сыпь на давно немытой старческой коже, потому что ничего не отвечая доктору, он тут же зачесался. Зачесался сначала потихоньку, а затем сильнее и сильнее. Видимо зуд начал-таки донимать его.
- Ну чего же ты молчишь, старый? -вдруг басом загремел окончательно потерявший тормоза доктор: по городу имела место нехватка обслуживания вызовов и потеря зазря каждой минуты... - Где твой труп я тебя спрашиваю?
- М-мм-ой п-п-пр-ии ммм-не... Вв-в-оо-т он! - Филиппыч, словно застигнутый врасплох вор, указал на свою впалую грудь и начал съёживаться, съёживаться, усыхать, становиться меньше и меньше, но, найдя в себе какой-то остаток своих слабых-преслабых старческих сил, пролепетал: - А-а о-он - и повёл одними глазами в сторону крысы.
- Что-о? - проследив за его насмерть перепуганным взглядом, взревел доктор. - Ты что же из ума уже выжил? Комедию мне тут ломать? В такое-то время? Где труп? По-хорошему тебя спрашиваю!
- Э-этт-о о-о-оон, - мелко стуча зубами, еле слышно пролепетал Филиппыч, - Э-этт-о о-о-оон! Банщик наш, И-ивва-ан И-и-вв-ваныч, о-о-о-бб-орро-ттень, то есть. Я сс-с-сслучайй-йно... гг ггы-гляжу, а-ааа-аа вв-в руке... то-ттой есть, и-и-ииизвините, в лапке...
Тут ужас, кажется, окончательно доконал Филиппыча и он, так и не договорив, с полуслова рванул от доктора наутёк...
Получался ложный вызов. И на кого-то надо было списывать бензин, хотя в те ещё пристойно-политические времена вряд ли кто догадывался, что существует такое понятие, как "дефицит энергоносителя". Но порядок есть порядок и вконец раздосадованный доктор вкупе со своими санитарами кинулся отлавливать беглеца, ибо только он один единственный мог подписать документ на списание израсходованного на вызов бензина.
С великим трудом они настигли старика только во втором квартале к северу от гостиницы, а сама его поимка произошла не без полезной помощи общественности, свидетельствующей о высокой морально-политической обстановке в городе, на поддержание которой местные партийные власти не жалели времени и средств. Земля уже давно одним боком была повёрнута к апрелю, но вдоль тротуара ещё невысокой изгородью, схваченной весёлым утренним морозцем, маялся старый полуистлевший снег и потому вид расхристанного, в одном пиджачишке драпающего от кого-то старичка подсказал слонявшемуся тут сбежавшему с уроков школьнику, что ловят вора... Прогульщик резко бросил свой неподъёмный портфель под ноги деду и того тут же "повязали".
Пока работники "Скорой" выясняли свои производственные отношения с дрожащим до всякого неприличия администратором злополучной гостиницы, на совершенно ничего не подозревающие власти города обрушилась целая лавина требовательных телефонных звонков и делегаций дотошных сограждан. Всех волновал один и тот же жгучий вопрос: правда ли, что исчезнувший на днях один единственный в городе банщик Иван Иванович был на самом деле инопланетянином и когда местной бане следует ожидать очередного пришельца? Сами власти же, плохо понимая истинную причину такого вселенского беспокойства, на всякий случай отбивались, как могли: на пути к ним их сограждан был немедленно установлен медицинский пост, отправляющий всех без исключения членов делегаций в наспех оборудованный по этому случаю специальный изолятор на предмет обнаружения у них чесоточного клеща. Городская телефонная сеть срочно переключилась на режим профилактического прозванивания, а единственная местная газета - огран нерушимого блока коммунистов и беспартийных - весь свой малый формат отдала под выписки из первоисточников марксизма-ленинизма о глубоком различии между материализмом и идеализмом. Однако волнение в городе не спадало...
Тем временем бригаде "Скорой помощи" нелёгкими совместными усилиями с подоспевшей вовремя общественностью и милицией удалось, в конце концов, выбить из полузадушенного животным страхом Филиппыча некоторые строго служебные сведения. Оказывается, третьего дня вечером они с банщиком, отмечая очередные успехи городского сервиса, наклюкались по-чёрному. То есть заехали не туда. Пили в номере, который предусмотрительный Филиппыч всегда держал в резерве. На всякий пожарный случай. Когда же уровень принятого вовнутрь окончательно залил глаза и поднялся чуть повыше бровей, оставляя у обоих приятелей нетронутыми лишь их голые макушки, Иван Иваныч (Филиппыч это твёрдо помнит) неожиданно превратился в большую серую крысу. Такой поворот событий не очень-то удивил в тот момент уже стоявшего на полу на одном колене и одной руке невозмутимого Филиппыча: он от кого-то слышал или, кажется, видел в кино, что нашу землю иногда посещают существа других планет, способные у нас превращаться в кого угодно. Хоть в кролика, хоть в крысу. Чего только на этом свете не бывает! Но всё же для полной своей убедительности Филиппыч с интеллигентными словами "Алло! Что у вас там новенького?" попытался ухватить крысу за хвост. Да покрепче. Да чтоб не вырвалась. Но тут же был немедленно злобно укушен за указательный палец, оказавшийся ближе всех к длинному и толстому пористому крысиному хвосту, который в этот момент сильно смахивал на знакомый нос бывшего банщика Ивана Ивановича. Последнее, что запомнил потрясённый такой наглостью Филиппыч, это полные глубокого удивления и возмущения слова крысы, произнесённые голосом банщика: "Шо же ты, козёл!...", за которыми последовал грубый удар ему промеж глаз. Оказывается, жизнь на других планетах в чём-то напоминает нашу!
Очнулся Филиппыч, когда скупое ещё по-зимнему солнце довольно прохладно уставилось ему прямо в глаза. Хотелось сильно пить. Лежа на спине, он с большим трудом разлепил левый глаз и принялся, было, за правый, но с досадой оставил это нелёгкое занятие: под спиной было маленько мокровато. Это обстоятельство его ненужно отвлекало. Но он заострил вопрос и резко повернулся на бок. При этом его банально нывший нос коснулся чего-то такого, что не являлось мягкой тёплой рукой его жены Маркеловны, всегда пахнущей устойчивым специфическим запахом давно требующей переклейки обоев кухни. Нет, это была не её рука. "Что за ноктюрн! - подумал в тот момент Филиппыч и с большим усилием подогнал ко лбу постоянно ускользавшую куда-то ленивую мысль. - Шопениада какая-то..." Это обстоятельство позволило ему сразу напрячься, сосредоточиться и разлепить оба глаза. Он нашёл себя на голом полу по соседству с опрокинутой бутылкой, содержимое которой кое-что ему тенденциозно подмочило. Нос его упирался в холодное брюшко навечно откинувшей свои лапки вчерашней крысы... "Иван Иваныч... Бедняга... Околел..."
После этого случая Филиппыч на три дня законно забюллетенил. Но на следующее утро, когда его непростая болезнь начала стремительно рассасываться после того, как содержимое четверти самогона, так неудачно запрятанной глупой Маркеловной в переполненной выгребной яме, торчащей прямо посередине их двора, перекочевало ему за воротник, когда его страшная болезнь начала стремительно рассасываться, Филиппыч очумело уставился в маленькое окно, выходящее на местный перепуток: в геометрическом центре перепутка в ярких лучах выбирающегося из-за горизонта ленивого солнца бриллиантово сияла высокая сигарообразная ракета, устремлённая ввысь, к высоким космическим далям. На самой её вершине в больших круглых тёмных очках во всё лицо восседал совершенно голый банщик Иван Иваныч, готовившийся, по всей видимости, к беспосадочному космическому полёту...
- Фу-у! Слава тебе, Господи! Опять оборотился! - радостно вскричал Филиппыч и, просветлённый, бросился к себе в гостиницу досрочно отдавать заныканый ранее номер народу. - Слава тебе, Господи!
Когда его трудное подвижничество было уже почти завершено и облупленная дверь номера была почти отворена, Филиппыч вдруг обнаружил, что с другой стороны порожка на него скалится всё та же серая дохлая крыса, давно остывшая в неудобной позе... Филиппыч побежал вызывать "Скорую"...
Позже "Скорая" забрала крысу в свой морг "для проведения перспективных космических научных исследований", а по пути тайно выбросила её в ближайшую канаву, чтобы не доводить до перенакала городскую общественность. А банщик объявился в городе ровно через неделю. Небритый, осунувшийся и остриженный под ноль. "Попал на румынскую границу. У них там через реку свадьба была. А я туда решил зайти повеселиться. Меня на мосту и взяли. Выясняли личность", - неохотно пояснил он. Напряжение в городе N начало понемногу спадать, и власти принялись потихоньку разъезжаться к семьям на дачи...
1982 г. Кишинёв
Нахалы
Слышь! Заикаюсь я. Особенно сильно, когда волнуюсь. Уф! Еле выговорил! Извини! Пожалуйста! Очень сильно волнуюсь! А всё из-за чего? Да нахалов развелось видимо-невидимо! Вот с троллейбуса меня сегодня скинули двое контролёров. Мол, ехал без билета. Да я же не привык! Я же всё время - на своём "Жигуле"! Нахалы. Вообще полная невезуха началась с того дня, когда я явился домой с работы ночью и без "Жигуля". А жена, бляха, меня домой не пускает!
- Где, - говорит, - наш "Жигулёнок"? Где он, родной мой? - и давай рыдать, ещё ничего толком не зная.
- А я тебе кто? Посторонний? - спрашиваю. Пока спрашивал, она успела сбегать к соседке за солью.
- Нет! - истошно заорала, вернувшись от соседки. А я как раз только что закончил фразу. - Валя сказала сейчас, что ты - хуже! Ты - муж! - и бьёт меня чем-то твёрдым промежду глаз.
- Где, - кричит, - моя машина, мерзавец? Опять у Надьки шлялся! Опять её накатывал? Опять у неё забыл? Пьянь несчастная! Да я тебя сейчас...
Я быстренько увернулся и пробежал рысцой в спальню. Вот нахалка! За что? Я же - с работы! Сама же умоляла, чтоб вышел во вторую: мол, с ребёнком некому днём поговорить. Ну я договорился выйти во вторую и с утра беседовал с ребёнком. До обеда, пока на работу не уходить. Скажу, не хвастаясь: дитя слушало, вытаращив на меня глаза, пока я что-то ему рассказывал. Не помню, правда, что. Кажется, что-то из жизни кроликов. Да, точно. Про кроликов. А в это время подошла с работы жена, глянула на малыша, ахнула и утащила ребёнка в поликлинику. Сказала - к психиатру. Вот, бляха! В чём я виноват, если ребёнку интересно и он тоже начал заикаться, как я! Правда, уже выпучивать глаза начал, а я этого ещё пока не делаю. Ну, я поехал сразу на "Жигуле" на работу...
Теперь смотри. Все нормальные мужики отдыхают на работе днём. Так? И вместе с начальником. Так? А мне в нашем отделе пришлось самому маяться до полуночи. А начальник из дома каждые полчаса звонит, бляха. Интересуется, не скучаю ли.
- Нет, - отвечаю, - не скучаю. "Жигуль" свой караулю. Томлюсь.
- Не спёрли ещё? - выспрашивает.
- Нет пока, - успокаиваю.- Пока - порядок.
А в конце смены замечаю, какое-то шевеление возле моей машины.
- Эй, - кричу, - кто там? Вы чего это там вытворяете?
Пока я, это, спрашивал всё у них, гляжу, а двое понесли уже за дом колёса от моего "Жигуля". Ну, нахалы! Я давай звонить в милицию, да где там! Пока я дежурному втолковывал, что да как, они у себя там успели четыре кражи со взломом раскрыть! Так они мне сообщили. Вот нахалы! А от "Жигуля" после этого остался только один стоп-сигнал!
А с женой мы расстались. Из-за моего заикания. Теперь вот хожу на сеансы к логопеду. Хочу с женой помириться. У неё сейчас двадцать четвёртая "Волга"...
1986 г. Кишинёв
В Египте было всё же хуже...
Между прочим, то, что однажды случилось в провинциальном городке N с моим знакомым младшим администратором местной гостиницы Филиппычем, который сам всех запутал своим поведением, искренне приняв, будучи в изрядном подпитии, своего близкого собутыльника банщика Ивана Иваныча за инопланетного оборотня в облике гостиничной крысы, не прошло бесследно не только для всегда полусонного, но в то тревожное время не на шутку взбудораженного городка, но и для самого виновника событий, хотя крепко возмущённые власти и не составили на сей раз никакого протокола в отношении Филиппыча. Может посочувствовали его непростому предпенсионному душевному состоянию, а может ещё из-за чего. Только протокол на свет не появился и Филиппыч законно бюллетенил, отпаиваемый какими-то тайными отварами своей всезнающей Маркеловной. Однако в нашей матушке-Природе, как известно, ничто бесследно не проходит и все страсти, бушевавшие в N, причиной которых явилось первобытное поведение Филиппыча, хотя вроде бы и покинули городок, но в соответствии с твердыми, как обещания очередного голодного кандидата в мэры, законами физики никуда не исчезли, а принялись доставать тех, кто обитает повыше нас - в Космосе. А это космолякам очень не понравилось: не было никакой гарантии, что, выйдя с бюллетеня, Филиппыч на этот раз не подымет спьяну на ноги уже всю область по поводу, скажем, внезапного наступления Нового Потопа. Однажды был уже случай, когда Филиппыч, покинув свою очередную дружескую компанию, вышел во двор забегаловки по малой нужде и принял стену соседнего сарая, выкрашенного в бело-голубой цвет, за волны Балтийского моря, на котором он когда-то служил во флоте. Всеобщую панику тогда удалось вовремя локализовать, не то быть бы беде... Поэтому "там" решили область, в которой находился родной городок Филиппыча, а заодно и самих себя прочно обезопасить.
...Около трёх часов утра Маркеловна, супруга Филиппыча, как потенциальный свидетель, была "ими" переведена в глубокую фазу сна, а на Филиппыча, как на главного виновника торжества, сначала навели оцепенение конечностей, а чуть попозже - полное бессилие. Перепуганный насмерть старик квадратными глазами наблюдал, как его извлекли из постели, пронесли сквозь плотно закрытое окно, через которое он совсем-совсем недавно наблюдал отлёт на ракете в небо своего друга банщика Ивана Иваныча, и, ничуть не повредив, в одном мятом исподнем доставили на борт НЛО в зелёную комнату-лабораторию. Торопились. Поэтому не спросясь, его тут же уложили на плоский длинный стол и взяли анализы крови, мочи, кала и спермы. С мочой и калом никаких проблем не было - сказалась необычность ситуации, а со спермой произошла небольшая заминка, но "они" тут же на что-то легко надавили и "препарат" сразу резкой струйкой брызнул на подставленное плоское прямоугольное стёклышко. Как ни старался вскинувшийся было Филиппыч запомнить, куда в подобных ситуациях надавливают, ничего у него не вышло: память была блокирована. Затем Филиппыч увидел длинный, сантиметров двадцать, металлический стержень, похожий на карандаш, перед ним опустили зелёную занавеску и сказали: "Не надо это видеть. Сейчас мы тебя навсегда отучим от глухого пьянства." Потом Филиппыч почувствовал себя совершенно голым и что ноги у него там, за занавеской, согнуты в коленях и свисают со стола.
После небольшой паники и замешательства Филиппыч освоился, было, со своей новой ситуацией и попытался закричать и позвать на помощь, но тут же почувствовал страшную, дикую, невыносимую боль. В место, известное в литературе под стыдливым названием "чуть пониже спины", ему медленно загоняли длинный раскалённый стержень. Старик, никогда не отличавшийся высокой общественной активностью, мгновенно вспомнил Михаила Горбачёва с его антиалкогольным законом, успел сообразить, что "процесс пошёл", услышал, как в тумане, слова "Больше пить не станешь" и в этой полной неразберихе напрочь отключился...
Когда наутро Маркеловна еле-еле пробудилась, она нашла своего супруга одиноко сидящим в полной меланхолии в одном исподнем за столом у окна. Он постоянно произносил совсем непонятную ей одну и туже фразу: "Я всегда буду в первых рядах литературы..."
- Отец? Ты чё это после ночи-то? Может тебе того... нехорошо? Может тебя где просквозило? Или, поди, недоспал? - Взволнованная Маркеловна совсем растерялась и бестолково суетилась вокруг бормочущего и беспомощно глядящего в пустое пространство супруга. А тот вдруг замолк и стал как-то странно рассматривать Маркеловну. Да так, что ей показалось, будто он впервые её видит.
Филиппыч, позже уже сидя за столом, не зря пребывал в полной прострации. Дело в том, что он, Филиппыч, был как бы уже и не он, а кто-то совсем другой. Даже точно - не он! Он глядел на всё, что его окружало, как бы с высоты и сторонним взглядом. Как будто это его не касалось и он был не отсюда, не из этого дома, не из этой постели и не вокруг него сейчас суетилась его Маркеловна. Он здесь был как бы ни при чём. Ему стало от этого не то, что не по себе. Нет! Он начал испытывать нечто, похожее на то состояние, когда он впервые увидел своего друга банщика Ивана Иваныча мёртвым оборотнем. Это было что-то близкое к паническому ужасу.
Да и было отчего так испугаться: всё, на что падал взгляд Филиппыча, становилось ему отчётливо видно со всеми внутренностями внутренностей! Более того, упёршись взглядом с расстройства от всего обнаруженного в себе в обыкновенный старый стол, за которым он изволил пребывать в это странное для него утро, буквально зацепившись взглядом за прикрытую линялой скатёркой грубую столешницу, чтоб, не дай Господь, не упасть со стула, ибо от всего им в себе обнаруженного его водило из стороны в сторону, он ясно узрел редкий сосновый лес, двоих мужиков с бензопилой "Дружба", отпиливающих ветки от только что ими поверженной красавицы сосны. Сосна трудно умирала. Филиппыч разглядел, как вокруг её свежего среза мерцали, постоянно переплетаясь друг с другом, лиловато-серые, голубовато-серые и яркие искрящиеся кольца. Сплетение колец сверху донизу пронизывали волнообразные полосы синего цвета с красноватым оттенком. Вся эта многоцветная дымка судорожно дрожала, трепетала, затихая-затихая, краски бледнели, обесцвечивались, растекаясь по окружающему пространству. Далее Филиппыч видел, как мёртвую обезглавленную сосну трактором отволокли на какой-то двор, распилили на доски, а доски сложили штабелем для просушки. А вот мужик взял доски из штабеля и принялся мастерить стол. А вот и сам Филиппыч. Ещё молодой. Покупает этот стол и несёт его, кряхтя, на себе домой...
- Боже мой, - бормотал Филиппыч, - Боже мой! Да ведь это же я молодой! - Не замечая своего движения, он ласково гладил ладонью столешницу поверх скатёрки... - Это же я... А каким был!
Тут Филиппыч обернулся немного назад, повинуясь выработавшейся за многие годы совместной супружеской жизни привычке всем необычным сразу же делиться со своей Маркеловной, и обмер: его взгляд совершенно непреднамеренно упал на ту её часть, которая ему была больше всего знакома. Он с ужасом обнаружил там многочисленные следы (слава Богу добрачной!) "модус вивенди" своей супруги. У него тут же перехватило дыхание и что-то сильно застучало в груди. Может это стучало обыкновенное сердце, а может - вконец оскорблённое запоздалое мужское самолюбие.
- А как клялась! - начал наливаться кровью Филиппыч, - как распиналась! Дескать, обманул, проклятый, пообещав жениться без наличия неполного среднего образования! Боже! Да сколько же их там! Один... Два... Три... Четыре... Господи! Вот он, подлец криворотый! Шестой! Что-то больно морда знакомая! Ну-ка, ну-ка! - Филиппыч, в ознобе, принялся острее вглядываться в "то" место Маркеловны. - Кудрявый-то какой,- плюясь в душе, ярился Филиппыч. - Я щас бы тебя за кудри-то твои, мать твою...
Тут он оторвал свой потемневший взгляд от "того места", как от магнита. Оторвал с усилием и с вполне определённой целью: желал задать кудахтающей над ним благостной Маркеловне один единственный вопросец.
- Неужели, - начал, дрожа и глядя ей прямо в её правдивые и преданные глаза, - неужели баншик Иван Иваныч был в молодости "по жеребячей части" и абсолютно кудрявый?
- Хто? - после небольшой запинки севшим голосом переспросила его Маркеловна, отдёрнувшись от него, как после удара током. - Ты, это... отец... - немного приходя в себя, осторожно начала Маркеловна, - после ночи-то... немного того... Делаешь, я бы сказала, совсем безответственные заявления. Вот сначала ты вдруг захотел быть в первых рядах литературы. Ну, какой из тебя, к лешему, литератор! А теперь вот с Ванькой... Да почём я знаю, каким был в молодости энтот конюх! Чтоб он совсем облез, как пёс, собутыльник-то твой! - завершила в сердцах свой небольшой отступной монолог Маркеловна и повернула, вконец оскорблённая, побыстрей к выходу. Филиппыч уже безо всякого удивления увидел, как её ауру сначала разрезали радиусы из красно-синих полос ("В точку попал: ждала вопросца-то!"), а затем вся аура зарябила маленькими оранжевыми и жёлтыми точками ("Заволновалась! Ишь ты!").
- Как же она лжёт! - почти вяло отметил про себя Филиппыч.
Сразу всё окружающее, вся эта постылая современность перестала вдруг его волновать, что-то вокруг него то ли сместилось, то ли перегруппировалось, как в детском калейдоскопе, и он увидел себя в своей третьей жизни в Африке, на заросшем густым тростником берегу голубого Нила. Стояла жуткая жара...
Его третья жизнь Филиппычу явно пришлась не по душе: во-первых, по тамошним египетским законам он должен был быть немедленно изувечен после того, чтС он выдал на гора Маркеловне, оскорбив её женскую честь. Хвала богу Озирису, что там эту филиппычеву глупость, видимо, не заметили. А может, это от Маркеловны ничего не отошло в Космос, как от абсолютной атеистки и активной жэковской общественницы? Потом опять же нельзя нигде, как у нас тут, спокойно "принять на грудь". Хоть ты и вылеченный от этого злого недуга, но всё же, скажем, для чистого интереса, для, пардон, простой эмпирики: в этом Египте только ты хвать за кубок с чем-нибудь этаким, как тут как тут уже какой-нибудь Хамит-эфиоп тебе в морду деревянной мумией тычет: мол, напоминаю пьющему, что от вина, мол, можно и того... Сыграть... Срамота! Сра-мо-та! Опять же жара! Африка! Деться-то некуда! Живи и всё тут!
А такая дикость, как эти фараоны! "Абу, подай то! Абу, подай сё!" (так в той жизни звали Филиппыча). Да всё подай во-время, всё - поскорей, на бегу! Не то рискуешь остаться без головы! С ума сойти можно! А тут ещё Верховный Жрец, как на грех, привязался, подлец: "Абу, - цедит он важно при каждой встрече, - подойди ко мне, неверный! Ты, презренный хамит, прислуживающий нашему фараону! Злой бог Тифон вновь принёс на египетские поля из соседних степей горы песку! Он требует жертвы! Наш Великий Аменемха Третий перестал выслушивать мои советы и внемлет только твоим низким намёкам! Горе народу Египта! Тифон требует жертвы! Готовся, Абу!" Чтоб ты пропал, волосатый!
А во что верят эти тёмные эфиопы! Смотреть противно! В переселение душ! Якобы душа человека после его смерти в течение нескольких тысяч лет переходит от одного животного в другое и, наконец, возвращается опять в тело человека. Ну, а раз так, то тело после смерти надо сохранить от гниения, чтобы оно дождалось нового пришествия своей души. А как сохранишь? Надо из тела делать мумию. Теперь вот каждому ребёнку известно, да и сам Филиппыч читал в газете "Время", что человек - это биологический компьютер, что душа - это специальная программа, дающая человеку начало его жизни, завершающая эту жизнь, программа, уходящая из человека в Космос, чтобы затем дать начало новой жизни. Наука! Нет никакой нужды сохранять тело, тратиться на такие дорогие сейчас ароматические вещества, ткани, гипс для бальзамирования, на всякую прочую ерунду. Да ещё - на высечение в горах всяких галлерей, гротов, на строение огромных пирамид, наконец! Ну, просто незачем! Дал, к примеру, бутылку-другую тому-сему, по-быстрому сколотили гробик, обтянули наспех красной материей, чтобы спрятать факт, что доски-то не струганы да не крашены (больно дороговато выходит, неэкономично). Дал ещё тому-сему бутылку-другую - закопали. Притоптали. Отметину сверху поставили в виде крестика или деревянной пирамидки. И с Богом! Насколько всё дешевле-то! От такой экономии, кажется, что всего у нас должно быть невпроворот! Хотя, однако, что-то не наблюдается. Странно. Загадка природы. Или - породы. Да кто его, на хрен, знает, почему? Но всё равно в Египте хуже было!
26.12.1994 г. Кишинёв
Все выше и выше стремим мы полет наших крыл
...Блин! Нигде не берут на работу! - Стар, - говорят, - слишком много знаешь! В смысле "понимаешь". Вот прихожу в один частный институт, спрашиваю:
- Такие-то преподаватели нужны?
- Такие-то? - переспрашивают. - Нужны, нужны! Еще как нужны! У нас часов - тьма! Можете сверх ставки заработать, хотя она у нас, сами понимаете... В наше сложное время...
- Да Бог с ней со ставкой! - прямодушно перебиваю я, - она меня мало интересует. Лишь бы работа была... и... - Блин! Ну, зачем я это ляпнул!
- Ка-а-ак не интересует? - теперь уже меня перебили. - Вы что, филантроп? Альтруист? - И еще более сурово: - Может вы оттуда? - И многозначительно посмотрели ввысь.
- Да нет же! - опять прямодушно отвечаю. - У меня только дедушка был на "альт". Со стороны моей двоюродной бабушки. То ли Альтшулер, то ли Альтфатер. Вообще-то он - третий муж даже моей троюродной бабушки, если точно. Когда композитор Алябьев сочинял своего знаменитого "Соловья", то отец того Альтшулера (или Альтфатера) в это самое время занимался альтруизмом: раздавал птичкам корм на мостовой. Может, это как-то и на меня перешло...
- Ну нет! - говорят, - вы нам не подходите! Еще чего-нибудь выкинете во время занятий... А нынче студент пошел сложный: деньги платит и требует свое...
Ну ладно, думаю, пойду попрошусь в другой какой-нибудь институт и на этот раз, блин, постараюсь быть поумней. Прихожу в другой: так, мол, и так, хочу преподавать, хочу много часов, много денег, хочу...
- Вот как славно! - отвечают. - Сразу видно приличного человека! Хотя зарплата у нас не того... Сами понимаете... В наше сложное время... Но часов - тьма! Можно прилично заработать.
- Хочу! - вожделенно закатываю глаза, - алчу!
Сговорились. Прихожу на первую лекцию. Народ - все с мобильниками и ноутбуками. Вызываю к доске симпатичную мамзель, которая в это время как раз докрашивала один глаз и вся была исполнена желания довести это полезное дело до его логического завершения. Так вот, вызываю я эту мамзельку к доске и прошу ее поделить столбиком 150 на 8. "Оно" удивленно глядит на меня своим недокрашенным глазом, который явно недвусмысленно недоумевает: мол, че ты, старый, репой об дуб боднулся? Потом медленно поворачивается к заворожено сидящим сокурсникам и врастяжку так вопрошает:
- Пацаны! У кого, бля, при себе калькулятор?
- Да нет, миленькая, - прошу я, - тут надо вручную, без калькулятора.
- Ну, ты ващще, - вроде про себя недовольно бурчит мамзелька, но так, чтобы все ее слышали, - точно, бля, с дуба рухнул! Какой сейчас век! - И медленно выплывает из аудитории. После этого занятия меня тут же увольняют: чего еще удумал! Разгонять студентов средневековыми штучками! Не позволим!
Вот, думаю, блин! Опять попал впросак! Все-таки выкинул свое во время занятий! Правы были те, из первого института, что не взяли меня. Ну, дома, как водится, обо всем честно рассказал жене. За что, мол, выгнали... Сами понимаете, что я услышал в ответ. Почти то же, что и в первом институте, куда меня не взяли. Только палитра выражений была попышней и погуще...
Делать нечего: пошел искать новый институт. Третий по счету. Нашел. Тоже частный. Сколько же их, думаю. Но не вслух. Потому что уже меня там спрашивают, чего, мол, желаете. Ну, я, блин, уже ведь опытный, хотя и старый.
- Работать, - говорю, хочу. Много! И чтоб заработать! Я, - говорю, - не филантроп и ни какой-то там альтруист. Кроме денег, - говорю, - самого наиглавнейшего в этой жизни, кроме них, - говорю, - я также не меньше люблю студенток... то есть... простите...их... обоих полов... Могу и обязуюсь за них не только читать, но и считать... Могу...
- Хватит, - обрывают меня, - хватит. Сразу видно, что вы - современный преподаватель. Вы нам полностью подходите. Мы все вместе должны стремиться к тому, чтобы студент к нам ломился, ибо именно он приносит нам наиглавнейшее в этой жизни...
И дальше мне стали излагать Кодекс поведения преподавателя перед студентами в современном демократическом обществе 21-го века. А я, блин, в это время почему-то вспоминал моего прадедушку Альтшулера (или Альтфатера) и реально видел, как тот раздавал птичкам корм на мостовой, в то время как композитор Алябьев сочинял своего знаменитого "Соловья". И, видать, что-то все-таки пропустил из этого самого Кодекса. Потому что прямо на первой же лекции, когда я стойко решал у доски за студентов вопросы деления столбиком двузначных чисел на однозначные, когда я любил студентов, во время их общения между собой и со своими друзьями и домашними по мобильникам, когда... В общем, я увидел, как на заднем столе... Правда, сначала я почувствовал некий табачный дымок, витающий где-то около и рядом и развернул в его сторону свой любопытствующий всегда и не к месту нос. Лучше бы я его не разворачивал! Но все! Что сделано, то сделано! Я увидел, как на заднем столе на карачках стояла кудрявенькая губастая девица с сильно оголенной круглой попкой, будто срисованной с первых полос многих современных демократических изданий, а двое ее дружков, у каждого из которых в руках было по пригоршне цветных презервативов, прикладывали презервативы поочередно к попке, стоя при этом по обе стороны от девицы. Видимо, подбирали по цвету. Чувствовалось, что девица при этом ловила большущий кайф: ее густо накрашенный ротик еле-еле удерживал дымящуюся сигаретку, то и делу искривляясь в замысловатых геометрических фигурах. Но геометрией здесь явно не пахло. Остальная братия, побросав все, вожделенно наблюдала за происходящим...
- Вы что, блин,.. - Я почти потерял дар речи... Вы что это вытворяете, детвора! Тут "пацаны", не прерывая своего занятия, почти хором недоуменно ответствовали:
- Мы - за безопасный секс! Разве вы по ночам не смотрите "Голубой канал"?
- Во-о-о-н! - заорал я истошным голосом, - во-о-о-он! ...
Вечером я клялся жене, что в следующем институте, если меня примут туда на работу, я до конца внимательно прослушаю весь "Кодекс поведения" и не стану больше в это время вспоминать моего прадедушку Альтшулера. Или Альтфатера. Блин.
23.10.2002 г. Кишинев
Процент от глупости
Сижу я как-то на своей кухне и ем борщ трёхдневной давности. Параллельно изучаю объявления в газете "Маклер". А что? Это самая читаемая в городе газета! В остальные газеты раньше только селёдки в магазинах заворачивали. Когда те заплывали в государственные магазины по разнарядкам ЦККПСС. Правда, это случалось довольно редко и поэтому газеты сразу сдавали в макулатуру после их выхода из типографии. А в "Маклер" селёдку никогда никто не заворачивал: когда эта газета появилась, то тут же появились и полиэтиленовые пакеты. Но исчез ЦККПСС . Но зато появилась селёдка и её можно было покупать без чьей-либо разнарядки. Но зато исчезли многие газеты, предназначенные для заворачивания в них селёдок. Но зато... Да, простите, оставим анализ литературных событий историкам - специалистам по селёдке, а сами займёмся поисками работы, которая тоже исчезла сразу, как только стала появляться безразнарядочная селёдка. Но зато вся городская жизнь перестала быть политической и литературной и стала вращаться вокруг "Маклера"! Ну и я, как настоящий горожанин, тоже жду чуда от "Маклера". Есть, которые ждут чуда от Президента страны или там от Мирового Банка. А я - только от "Маклера".
В понедельник еле-еле занял денег у соседей, чтобы дать объявление в "Маклер", что, мол, ищу работу. Под эти деньги всю неделю выгуливал их шелудивого барбоса, бродя за ним с фирменной лопаточкой и полиэтиленовым пакетиком (хозяин бобика недавно вернулся из Мексики и применил у себя их метод выгула собаки). Нет, в пакет я собирал не селёдку, нет. Ну, это не важно. Важно другое: теперь о моих трудовых потребностях узнает вся городская общественность и может быть мы со своей бабушкой на следующей неделе не помрём с голода, сумев кое-что добавить к нашим пенсиям за счёт подработки у какого-нибудь господина.
Сегодня пятница и я изучаю только что купленный (в счёт выгула соседского бобика всю последующую неделю) и пахнущий свежей стойкой типографской краской толстенный "Маклер". Уже почти доедаю свой борщик, как вдруг - звонок.
-- Вы - такой-то?
-- Ого-го! - бодро отвечаю. - Еще какой! Я такой, что...
-- Вот и прекрасно! - тут же перебивают меня. - Вы нам подходи-
те... Мы сейчас затеваем один грандиозный проект и поэтому просим вас немедленнейше прибыть к нам на первую презентацию.
-- Как? - поперхнувшись уже холодным борщиком, вопрошаю: -
прямо, прямо сейчас?
-- Именно, - быстро говорят мне, - именно! Иначе у нас франчайзинг с брендом не сойдутся. А с вами как раз все и сойдется.
-- Что? Франчай...
-- На месте, на месте, миленький, все и узнаете! Только, пожалуй-
ста, побыстрей! В течение получаса! Иначе будет поздно! Сами понимаете: конкуренция. А еще - инерция, протекция и суспекция!
Утомленный стародавним борщем и огромным количеством столь важных слов, я, под удивленный взгляд остолбеневшей супруги почти выпрыгиваю из-за стола сразу без домашних тапочек, штанов и наспех заштопанного свитера. Супруга, правда, все же успевает выдрать у меня изо рта столовую ложку, явно опасаясь, что я "последнее вынесу из дома". Ровно через минуту, одетый для выхода, причесанный и надушенный, молча хватаю из протянутой ко мне руки супруги два лея на маршрутку и исчезаю. Успеваю. Нахожу адрес и вхожу в комнату презентации.
- Мне звонили, - запыхавшись, сообщаю. - Такой-то.
- Входите, входите! - хором обрадованно восклицают немногочисленные присутствующие. - Мы очень рады! Сейчас же начинаем!
Какие милые люди, думаю я. В наше смутное время так встречать просителя работы. Почему-то вспомнился сомнительный лозунг Степана Бандеры "Ще не вмерла Украина!" и я скромно присаживаюсь на кривой стул прямо у входной двери. Стул громко скрипит и все восемь присутствующих добрыми глазами смотрят на меня.
- Я бы хотел... - заикаюсь я, обращаясь к встретившему меня так любезно сообществу. - Я бы хотел узнать...
- Вы все, все узнаете! Потерпите! - тут же подхватывается сидящая за столом у широкой школьной доски стервозного вида худющая, неопределенного возраста, дама. Она явно здесь главенствует.
- Начинаем! Слово имеет Анна! - произносит дама и из-за соседнего стола быстро встает высокая стройная светловолосая хорошо одетая приятной внешности женщина, подходит к доске, берет кусочек мела и обращается с явной долей напыщенности к присутствующим:
-- Господа! Что нам дала Советская власть? Ничего! Я прошла
путь на... (тут она называет одно из крупнейших в городе производственных объединений) от рядовой сборщицы до начальника цеха. Имею кучу грамот за добросовестный труд. И в результате я - на улице. Без работы. Без денег. А что нам дает наш сегодняшний хозяин господин Ухукало? Он дает нам возможность не только хорошо заработать, но и стать совладельцем его огромной фирмы! Он дает нам возможность, в отличие от пресловутой Советской власти, оставить своим детям и внукам определенный капитал! Он дает нам возможность..., - тут она нарисовала на доске первый квадратик, - получать не только процент от продажи товара фирмы, не только процент от объема товарооборота фирмы, - тут дама обрисовала мелом второй квадратик, но и, - тут она многозначительно оглядела всех присутствующих и почему-то очень долго смотрела своими победными глазами на меня, - но и через франчайзинг с помощью бренда стать финансистом и получить свою долю в компании...
При этом дама глубокомысленно закатила свои глазки вверх, туда, повыше к небесам, где, видимо должен был бы сейчас находится их хозяин, их господин Ухукало. Я тоже, охваченный важностью происходящего, в соответствии с тем, как это сделали и все присутствующие, я тоже важно наморщил лоб. "Франчайзинг и бренд", подумал я, это - круто! Хотя в глубине души пожалел, что не захватил с собой английского словаря из-за сильной быстроты сборов на презентацию. Но кто же предполагал, что так вот все обернется! Опять же, можно получить долю в компании. Правда, какую именно, дама не уточнила, но говорила она с большим пафосом, и я понял, что доля будет явно не горькой...
Вслед за первой дамой слово взяла вторая - помоложе и попотертее. Она тоже жаловалась на Советскую власть, на то, что та на том же самом - удивительно! - объединении позволила ей, простой рабочей, проработать двадцать лет, наградила ее орденом, но в итоге эта женщина, как и первая выступавшая, оказалась в наши времена за бортом жизни, предприятие не работает, а капитала она не скопила: не способствовала этому прежняя власть. Но зато сейчас через фрай... через фрай... Она была не так грамотна, как ее предшественница, и через чужое слово никак не могла перескочить. А потому в досаде махнула рукой. Но зато она, мол, сейчас вступила в команду хозяина, приобрела его высоколиквидный товар и употребляет его вместе со своими детьми. И дети, как это ни странно, выросли соответственно до 14-ти и 17-ти лет! Без никаких! Спасибо хозяину, что так заботится о людях и дает им возможность быть здоровыми и собираться вместе, как братья, на такие презентации!
Все с огромным воодушевлением дружно зааплодировали. Я в это время напрягся и пытался сообразить, в чем же будет состоять моя работа. Пока было не совсем ясно, если не сказать больше. Из этих двух выступлений я понял только, что надо вступать в компанию хозяина, чтобы через франчайзинг и бренд стать здоровым финансистом. Неплохо.
Третьим от сообщества выступил, как он сам представился, юрист. Видимо, как юрист он знал нечто большее о происходящем, чем то, о чем поведали две первые дамы. И сие знание вынуждало его постоянно плутовато отводить глаза в сторону. К тому же речь его нуждалась в постоянном присутствии квалифицированного логопеда. Но и ему в конце его спича дружно зааплодировали. Меня в это время совсем сморило ко сну и только бурные аплодисменты несколько взбодрили. Захотелось домой, и я сделал непроизвольное движение в этом направлении.
-- Кхы, кхы! - громогласно напомнила о себе председательствующая. - Мы скоро закончим!
Она строго смотрела мне в глаза. Я потихонечку обратно присел на свое место. Тут председательствующая сама взяла слово. Я ее плохо слушал и искал глазами, кто же еще, кроме меня есть "приглашенные". Судя по тому, как все восемь присутствующих тепло общались между собой, "приглашенными" был только один я. При этом я почувствовал от своего вывода какой-то холодок внутри, но тут меня неожиданно отвлек свежий тезис, долетевший до моих ушей от горячо выступавшей председательствующей:
- Господа! - распалясь, гремела она. - Господа! Франчайзинг с брендом - гениальнейшее изобретение нашего хозяина! Оно позволяет всем нам, заключившим с ним контракт, стать настоящими финансистами и получать свою долю в компании хозяина! Хозяина знают во всем мире! Он - миллионер и знает, как делать деньги. Он и нас научит! Мы не должны учиться ни у каких профессоров! Они не умеют делать деньги! Мы должны учиться у миллионеров!..
Тут ей все присутствующие, кроме вашего покорного слуги, бурно зааплодировали. Вот это да! Действительно сюрприз! Не надо учиться у профессоров, а только - у миллионеров! Вот это номер! Пока я от души восхищался этим тезисом, все восемь "сообщников" дружно преподнесли мне небольшую картонную серую коробочку, поверх которой лежал красиво распечатанный на компьютере и уже подписанный "одной стороной" контракт, в котором удостоверялось, что подписавший его, "именуемый в дальнейшем "членом команды", имеет право стать богатым и обеспечивается методикой, как этого добиться. Методика представляется на аудиокассете, которую необходимо слушать ежедневно перед сном после вечернего чая. Далее следовал номер счета, который открывается в банке для подписавшего "настоящий контракт" и на который будут поступать проценты от дохода фирмы хозяина. За все услуги по оформлению контракта следовало внести всего 33 доллара наличными.
-- Паспорт у вас с собой? - хором поинтересовались у меня "члены команды".
-- Да, - вяло ответил я, - но...
-- Ничего, ничего! - опять же хором успокоили меня, - давайте же его сюда! Мы за вас внесем эти деньги. Подпишите контракт вот здесь. Принесете нам деньги, получите свой паспорт. Идет?
- Но... - опять было начал я...
... Три дня я ночевал на лестничной клетке: жена не пускала домой. Потом все-таки снизошла, выбросила мне на лестницу требуемую сумму и сквозь непритворенную дверь прошипела:
- Иди, дурак, хоть документ назад верни! А то, не дай Бог, заарестуют еще...
Не понимает прямой выгоды. Темная женщина, подумал я. Теперь можно будет сидеть и ждать, пока денежки сами не накапаются!
Ну, я так и сделал: расплатился с командой, забрал паспорт, ставши "членом команды", и начал накануне сна включать и слушать кассету с методикой. Оказалось, что главное в ней это то, что не надо быть хлюпиком, никаких там "если да кабы". Должен быть всегда уверен в себе. И у тебя все получится! Ну, я и был уверен. Сидел и ждал. Сидел и ждал. Потому, что был уверен. Что все получится.
Прошел месяц, и я пошел в банк поинтересоваться: сколько же там мне уже накапало. Прихожу и просто так и спрашиваю. Девица, которая там в окошечке сидит, вытаращила на меня свои блестящие черные глаза и выдавила в моем же духе:
- Дак... это... сухо у Вас тут. Просто сухо... Ничего еще не накапало. Видать, погода у них там хорошая стоит...
Ладно. Сижу еще месяц. Жду. Потому, что уверен: все получится! Так было озвучено на кассете, которую мне дали в счет 33-х долларов, заплаченных за контракт с хозяином. Потом иду снова в банк и интересуюсь. Снова, говорят, сухо. Ну, блин, думаю, чего же это они? Забыли совсем, что ли? Прихожу в "команду". Так, мол, и так. В чем, мол, дело, братцы?
- А ни в чем, - отвечают. - Откуда капать-то будет? Ты че, в натуре, совсем лох что ли? Вот приведешь нам другого такого же, как ты. Пусть заключает контракт. Платит свои 33 доллара. Вот с них и получишь свой процент. А остальное все пойдет хозяину. За гениальную придумку...
- А как же франчайзинг с брендом, которые...
- У профессоров все-таки сначала надо немного поучиться: франчайзинг - это, миленький вы наш, привилегия, а бренд - клеймо, марка, печать позора. То есть договор заключен на привилегию носить на себе клеймо, печать позора, что мы все тут и делаем. Деваться-то некуда. Вляпались по самое не могу. Поэтому-то мы - одна команда. И чтобы как-то жить, набираем себе подобных. И имеем от этого свой процент. Настоящий процент от глупости!
28.10.2002 г. Кишинев
Районная станция переливания крови
Районная станция переливания крови. Полутёмный длинный узкий, блестящий разбитым и начищенным линолеумом коридор. На пустой, обитой коричневым дермантином скамейке, плотно прислонённой к покрашенной в густое серое стене, в повязанном на голове белом платочке в тёмный горошек сидит одинокая, согбенная годами старушка. Мимо торопливо пробегает молоденькая медсестра. Обратив внимание на старушку, приостанавливается и больше для порядка строго спрашивает:
- Вам чего, бабушка?
Старушка оживает, смотрит почти собачьими глазами на девушку, на её белоснежный накрахмаленный и чуть похрустывающий от малейшего движения коротенький халатик, смотрит, смотрит и видно, что она никак не вспомнит, зачем с самого утра сидит тут на пустой скамье. Девушка начинает немного нервничать (работа ждёт!) и, стараясь быть предельно вежливой, медленно повторяет свой вопрос:
- Вам чего, бабуля?
Старушка, почти мыча, начинает махать на неё рукой, ёрзает-ёрзает по скамье и, наконец, кряхтя и запинаясь, выдавливает из себя:
-- Я... это... значить... пришедши сюды... это...
Видно, что ей никак не вспоминается то, из-за чего она оказалась в этом длинном пустом, пахнущем едкой густой хлоркой коридоре. Но вдруг её осеняет:
-- А-а! Так это... я... значить... пришедши сюды... то исть... это... значить... желаю сдать... как его... ну... это...
Она вдруг шустро поднимается со скамьи, воровато оглядывается по сторонам и подносит свои уже почти синие сморщенные губы к розовенькому от наступающего негодования ушку медсестры. Шепчет:
- Притопала к вам сдавать свою либиду!
- Что?!! - девчушка почти теряет дар речи. - С чего это вы взяли что оно у вас есть?
- А как же! - оживляется старушка. - Дохтур мяне давеча проинхормировал!
И немного подумав, довольно уточняет:
- Я находилася у яго по поводу моей свинки!
- А, так вы у ветеринара были? - начала успокаиваться медсестра.
- Я у яго фамилию не выспрашивала, - быстро перебила её бабушка, - но он мяне сказал: "У вас, мол, милая, яще есть либида и энто, быдто бы, дорогого стоить." Вот! Я и заявилася сюды её сдать. Мне она ни к чему, а деду свому я бы купила новые трусы!
- Не мог этот "дохтур" у вас ничего такого обнаружить! Не мог! - в отчаянии закричала медсестра. - Не мог, бабуля! Понимаете?
- А зачем тады он мяне шшупал? - резонно возразила старушка...
18.06.2004 г. Кишинёв
Из объяснительной
Как я был заступивший на смену, я увидел, что какой-то господин пытается перелезть через забор и попасть во двор Российского посольства. Я тут же попытался воспрепятствовать этому противозаконному действию путём стаскивания господина с вышеуказанного забора. Однако тот отбивался от меня всеми своими копытами и кричал, что он есть великий русский поэт Фёдор Т. и возвращается домой из глубокой эмиграции. С помощью подоспевшего полицейского наряда нам удалось связать копыта господину поэту и перебросить его на противоположную часть улицы. Однако вышеупомянутый господин, оставшись наедине с самим собой, удачно развязал свои копыта и сразу влез на то дерево, на котором недавно сидел наш известный депутат Парламента, и принялся, как и вышеупомянутый депутат, громко высказывать своё негативное отношение в сторону посольства и красной коммунистической власти на этой стороне, совсем не подбирая поэтических слов. Предлагаю к вышеупомянутому дереву прибить 120-ти миллиметровыми гвоздями (чтобы не упёрли) современную пожарную лестницу, дабы в дальнейшем не подвергать ненужному риску жизни великих людей нашего края.
20.06.2004 г. Кишинёв
Серьёзное заявление
Один из лидеров очередной "народной" партии недавно заявил:
- Нечего няньчиться с этим Приднестровьем! Вот станет у нас жизнь лучше - сами прибегут!
Мы попросили прокомментировать сей серьёзный тезис г. Чайникова - крупного специалиста в области внутренних и международных отношений: после двухнедельной стажировки на одесском Привозе он несколько дней устанавливал отношения между кишинёвским толчком и одесским "7-м километром", умело обходя заградительные отряды полиции, таможни и ДАИ (до чего же удачную аббревиатуру придумала украинская ГАИ!).
Не сразу поняв суть нашего вопроса, г. Чайников нахмурился. Потом произнеся многозначительное "А-а-а..." , он надолго ушёл в себя, наверное задумался. При этом он постоянно теребил в руках скромно инкрустированную аллюминевую зубочистку и смотрел куда-то вбок, туда же склонив свою умную голову. Наконец, видимо, анализ ситуации был готов и г. Чайников стал ещё более хмур, чем в начале нашей встречи.
- Сами прибегут, - говорите, - сами... Когда, значит, у нас жизнь станет лучше... Но тогда, следуя этой логике, тот миллион местных, который уже "прибежал" на Запад, он больше никогда сюда не вернётся! И прибежавшие в будущем из Приднестровья транзитом рванут на тот же Запад... "Я убегал, меня ты провожала!" - Вдруг фальцетом завокалил г. Чайников и, как нам показалось, немного, совсем немного прикрыл рукой от нас свои глаза. Потом что-то капнуло от него на его зубочистку и от неё пошёл шип и тёмный пар. "Горючая слеза!" догадались мы и скромно удалились, оставив г. Чайникова наедине с его зубочисткой и огромным миром, который задаёт и задаёт вопросы и от которого не отвяжешься, как от ДАИ, подобострастно сунув ей в руку мятую взятку...
26.06.2004 г. Кишинёв
Один президент...
Один президент, будучи уже далеко не в юношеском возрасте, стал плохо видеть, но очки надевать стеснялся. На все документы, которые ему приносили помощники, он долго щурился, а потом, так ничего и не разобрав, молча подписывал. После каждой такой процедуры президент тяжело вздыхал и выпивал рюмку-другую водочки. Просто для расширения зрачков. Просто, чтобы получше видеть. После этого уже расширенными глазами смотрел на окружающую действительность.
Пока поступала следующая порция документов, зрачки уже были сужены до своего первобытного состояния и прежняя ситуация повторялась: президент всё снова подписывал вслепую, после чего - новые рюмашки.
Ему бы, бедному, поменять всё местами: сначала рюмашки, потом - подписи. Но никто такого ничего не подсказал. А он сам не смог догадаться. Так и правил страной: одни ему подсовывали на подпись документы, по которым они забирали в свою собственность заводы и фабрики, леса и пахотные земли, гидростанции и месторождения полезных ископаемых. Другие - чтобы развалил напрочь армию и полицию, от которых им житья не было, третьи...Разные были третьи.
Сколько рюмашек приходилось ежедневно принимать президенту из-за своей стеснительности! Однажды он даже с моста в реку упал из-за этого, когда возвращался с работы с букетом цветов. Говорит, что было два моста и он просто пошёл между ними... Ну больно писать об этом! Однако нашёлся-таки один добрый человек: пришёл он к президенту и говорит:
- Ты, мил-человек, ступай к такому-то доктору и он тебя враз от слепоты вылечит: наставит на тебя таку машину с пушкой...
- Свят, свят, свят! - замахал на него руками президент. - Я тогда не хотел расстреливать из танка свой парламент!
- А из чего ты хотел расстреливать? - уже было хотел раскрыть рот добрый человек, но удержался от искушения и говорит:
- Эта машина - с лазерной пушкой. Это - не танк. Она - для исправления твоего зрения.
В общем, прострелили из лазерной пушки глаза президенту, вышел он из районной поликлиники... То есть, протите, вышел он от врача... Весь просветлённый такой. Тут к нему - сразу рой всяких журналистов-корреспондентов. Что, мол, да как.
- Мы хотим, - глядя в далёкую даль, сказал президент, - чтобы мы открытыми и ясными глазами понимали, что делается в стране!
- Ух ты! - вскрикнул какой-то невыдержанный (наверное молодой!) журналист, - ну чистый тебе царь! "Мы хотим ясными глазами понимать..." Круто! Как же можно понимать ясными глазами? - громко задал он вопрос своему соседу, который, тоже видимо, от недоумения, чесал свой затылок. Так как президент при этом всё время глядел в даль далёкую, он не слышал возгласа невыдержанного (наверно молодого!) журналиста и потому тому придурку ничего не было. Но президент своими ставшими, наконец, ясными глазами всё понимал. Пришёл он на своё рабочее место, выпил тройную порцию рюмашек за успешную работу лазерной пушки, глаза его при этом стали ещё яснее и стал он понимать ими ещё больше. И когда всё-всё понял, тут же начал войну в Шиш-не. Была в его государстве такая провинция...
27.06.04 г. Кишинёв
Один новый русский...
Один новый русский решил забрать к себе в Москву свою старушку-мать, которая одиноко жила в глухой заброшенной властями и людьми деревне. Мамаша не замедлила приехать и немного поосмотрясь, в один прекрасный день заявляет своему отпрыску:
- Сынок! Я влюбилась! Но мой избранник не хочет на мне жениться!
- Да как он смеет, муд... - начал было заводиться новый русский, но мать его перебила:
- Нет, нет! Он хочет, но... чтобы я сначала сделала пластическую операцию.
- Ему что-ли? - спросил сынок.
- Да нет же: себе!
- А-а-а! Тогда это - не вопрос! Дам я тебе бабок, чтобы деду твоему было приятно глядеть на твоё лицо.
- С лица воду не пить, сынок! - философски сказала мамаша, глядя при этом куда-то вбок.
- Да что же ты тогда хочешь сотворить с собой, маманя? Я тебя, в натуре, не совсем понимаю! - новый русский смотрел на мать в некотором замешательстве, чего с ним почти никогда не случалось. - Ну?
- Я, сынок, того... Ну... для деда этого... Ну и как бы для себя тоже...
- Ну же, маманя! Давай врубайся в тему в темпе! Время - деньги! Чего же ты хочешь?
- Дак груди свои я должна подтянуть, сынок. Дед, проклятый, ничего знать не желает: они, дескать, ему мешают мой пупок видеть! В аккурат ему, мерзавцу, открытый пупок подавай! Вот старый козёл! А что мне остаётся делать?
- Да ты чё, маманя, осатанела? Я вижу, что у тебя уже мигрень пошёл по всей голове! - рассвирепел вконец сынок. - Да твой старый хрен, небось, уже вообще ничего не видит, а не только твой пупок, прости Господи! Я вот позабочусь, чтобы сначала ему улучшили зрение, а потом... - угрожающе закончил новый русский. И уехал по своим новорусским делам за границу. А когда через три дня он возвратился домой, мамаша к нему с новой заботой:
- Ты был прав, сынок, спасибо тебе, благодетель: дед стал пупок немного видеть. Но теперь он требует, чтобы ты посадил целую плантацию женьшеня!
29.06.04. г. Кишинёв
Новая операция Ы
Одна женщина очень любила своего небогатого мужа, что нетипично в наше практичное время. Видимо, из-за этой самой нетипичности судьба распорядилась так, что горячо любимый человек отправиплся в мир иной в самом расцвете сил. Женщина очень сильно горевала по своему любимому мужу: не пила-не ела, из дома никуда не выходила, за коммунальные услуги не платила. К ней в дом пытались пробиться работники ЖЭКа, Горгаза, Электросетей, Водоканала, Теплосетей, Телефонной службы, судебные исполнители, участковый милиционер и прочая всякая власть, стремящаяся отхватить у гражданки каждая свой кусок. Но ничего не выходило: гражданка в своём неизбывном горе в дом никого не впускала. Некоторые отчаянные головы (видимо, очень хотелось есть) пытались пробить стенку её квартиры отбойным молотком, но дом, в котором она жила, был построен два века тому назад, когда про отбойные молотки ещё никто ничего не знал, и потому затея пробить стенку этим современным средством потерпела фиаско.
Патриотически настроенные соседи, которым эта гражданская война их соседки с властями не давала никакого житья, решили коренным образом изменить ситуацию: выманить из квартиры злостную неплательщицу и тогда... Ну действительно: не могут же власти голодать только из-за того, что у кого-то умирают мужья, пусть даже небогатые и любимые! Этого ещё не хватало!
Был изобретён тонкий хитроумный план, в соответствии с которым под дверь неплательщицы была подложена записка следующего содержания: "Подруга! Мы горячо скорбим по поводу твоей утраты. Но твоему горю можно помочь: мы, твои соседи, связались с посольствои Индии в нашей стране, которое по нашей просьбе уже выписало из города РаджТаджХиндиКапур святого человека, который берётся тебе помочь. Он вычислит местонахождение животного, в которое вселилась душа твоего Коленьки. Будь сегодня ровно в полночь на углу Чубайсовской и Красного Рошки. Там к тебе конспиративно подойдёт работник нашего ЖЭКа и отведёт тебя к святому индусу."
Записка сработала и многодневная затворница оказалась среди ночи в пустой комнате, посреди которой на голом полу в позе бога Шивы восседал тощий-претощий и смуглый-пресмуглый человек. Он был одет во всё белое (у них там в Индии - страшнющая жара!), на голове его как-то боком сидел красный тюрбан, а на лбу красовалось неровное, как будто наспех нарисованное химическим карандашом, лиловое пятно. "Как он похож на цыгана Ромку, который вечно ошивается в нашем дворе, постоянно норовя спереть всё, что плохо лежит", - мимоходом подумала про себя пришедшая и тут же опустилась на колени перед святым. Человек, приведший её сюда, молча застыл за её спиной. Индус долго-долго смотрел на пришедшую, а затем своими тёмными и давно немытыми руками ("Наверно, Ганг высох этим летом", - опять пришло на ум женщине) начал совершать у неё перед носом какие-то пассы. Человек за её спиной заговорил:
- Учитель говорит, что ты должна пойти вот по этому адресу (рука переводчика оказалась перед лицом женщины и та увидела в зажатой ладони какую-то бумажку), там найдёшь людей, у которых живёт белый пудель. Это и есть твой муж Николай. Адрес получишь, когда передашь Учителю... - Тут он назвал сумму дененг, которую назначил Учитель.
- Ну и цены у них там в Индии! - от неожиданности воскликнула женщина. - Перегрелись, что ли? Да где ж я этому супостату столько добуду? У меня вон и коммунальные ещё не плочены.
- Не плочены, не плочены! - передразнил её переводчик. - Не это сейчас главное! Мужа хочешь видеть?
- А то!
- Учитель сказал, что если сильно любишь, найдёшь!
- Вот нерусская морда! Живодёр! Понимает, проклятый, куда надавить! - Женщина поднялась с колен и добавила: - Ладно! Завтра я тебе деньги передам! Но глядите, субчики! Чтобы без обмана! Не то я из вас обоих сыр Рошфор сделаю! Слыхал про такой? - Переводчик, конечно, никогда ни о чём таком и не слыхивал, но сразу в ответ задакал и утвердительно замотал головой.
... И вот эта несчастная любящая женщина сидит перед хозяйкой белого пуделя, разодетой в пёстрый наряд, и удивляется (опять про себя) :до чего, мол, разнахалились эти цыгане, что начали себе таких породистых собак заводить!
- Сколько ему? - кивнув на пуделя, вслух произнесла женщина.
- Ровно три месяца, - быстро ответила хозяйка. - Да ты смотри, красавица, какой мужчина! Погляди в его глаза! Гляди, как он на тебя взирает! Как он тебя хочет!
Женщина молча взяла из рук хозяйки пуделька и стала смотреть в глаза собачке. Потом начала нежно гладить её по кудрявой белой спинке, по чубастой головке, щекотать за ушками, прижимать к своей груди, в которой в этот момент откуда-то появился резкий жар и сильными толчками забилось сердце. Женщина приложила свои вдруг запылавшие щёки к тёплому и чуть подрагивающему от прикосновения бочку животного. Пёсик начал томно поскуливать и замотал своим куцым и ставшим сразу напружиненным хвостиком: раз, раз! Раз, раз! Раз, раз!
- Коля, это ты? - пристально глядя пудельку в глаза, почти простонала женщина. - А, Коль? - Пёсик нетерпеливо громко заскулил.
- Ах ты родненький мой! Ах ты моё незакатное солнышко! - Женщина принялась яростно целовать пёсика в его влажный чёрный носик, в чёрные пуговички-глазки, почти прикрытые кудряшками, в мягкие, спадающие вниз лепёшками ушки... - Коленька мой!
Пуделёк заскулил громче и уже как-то не так, как прежде, и попытался вырваться из горячих объятий.
- Да ты чё это, Коль? - недоумённо отстранила пуделька от себя разволновавшаяся не на шутку женщина. - Я тебе стала уже противна? За что, Коль? Да я без тебя, Коль, жить не хочу! - Но собачка продолжала вырываться из её рук. - Да ты чё, Коль? Совсем в этой собаке очумел, что ли? Коля?
Собака в руках женщины изгибалась во все стороны, пытаясь как-то вырваться, освободиться. Наконец, видно от безысходности, она цапнула свою мучительницу за большой палец правой руки. Женщина дико взвыла, отдёрнула руки от собаки и пуделёк тут же упал на пол. Долго не раздумывая, он сразу же мотнулся под многочисленные юбки своей хозяйки-цыганки.
- Я так и знала! Я догадывалась! - почти завизжала укушенная вслед беглецу. - Я знала, что ты мне всегда изменял с этой лярвой Катькой! Но знай, что не успел ты помереть, как она, сучка, тут же повязалась с другим кобелём! Ишь, я ему плоха! Вырывается он! Люди добрые, поглядите на этого кобеля! Закучерявился он! Ещё помереть как следует не успел, а туда же! Да будь ты трижды проклят! Да что тебе пусто было на том свете!
... Когда вконец надломленная любовью и таким вероломством женщина подходила к своему дому, её встречала огромная толпа каких-то людей с лозунгами и транспарантами. Лица людей в толпе сияли. Ища хоть какой-нибудь проход сквозь толпу, несчастная обратила внимание, что некоторые из лиц в толпе ей напоминают людей, похожих на работников ЖЭКа, Горгаза, Электросетей, Водоканала, Теплосетей, Телефонной службы, на судебных исполнителей, участкового милиционери и прочую всякую власть. На кумачёвых полотнищах и огромных щитах, парящих над ликующей толпой, огромными буквами оглашалось: "Да здравствует...(далее шли неискажённые, взятые прямо из компъютера фамилия, имя и отчество нашей героини)", своевременно оплатившая все счета по комунальным платежам и тем спасшая нашу родную власть от полного обнищания! Равнение на передовых!"
30.06.04.г. Кишинёв
Девчушка
Девчушка с торчащими во все строны косичками-хвостиками сидит перед телевизором на стульчике, положив аккуратно свои ручки на коленочки, как учила воспитательница Татьяна Ивановна. На экране Ф. Киркоров и М. Распутипа дуэтом исполняют "Розу чайную". "У-у-у е-е! Ты не слышишиь меня! Я не слышу тебя!" - поочередно с яростным надрывом выкрикивает в экран каждый из них. Этот рефрен звучит всё настойчивее и настойчивее. " У-у-у е-е! Ты не слышишиь меня! Я не слышу тебя! У-у-у е-е! Ты не слышишиь меня! Я не слышу тебя! У-у-у е-е... " Ребёнок что-то постоянно не понимает и начинает ёрзать на стульчике. " У-у-у е-е!" - громко несётся с экрана и дядя с тётей в очередной раз резко размахивают руками. Девчушка, пыхтя, слезает со стульчика и бежит к маме на кухню:
Мама! Мамочка! Что это такое " У-у-у е-е" ?
И для большей убедительности она прижимает ручки к своим торчащим косичкам, оттопыривает указательные пальчики и натужно мычит, изображая бодливую бурёнку: " У-у-у е-е!" Мама слышит песню, доносящуюся из комнаты, и, смеясь, поясняет:
- Когда взрослые не понимают друг друга, то они могут так говорить: " У-у-у е-е!"
- Они так ругаются? - уточняет ребёнок.
- Да нет же! - смеётся мама. - Просто они были в долгой разлуке...
- А вот и неправда, мамочка! А вот и неправда! - торжествуя, перебивает маму девчушка. - Вот когда тебя долго нет, то вы с папой - в разлуке. А когда ты возвращаешься домой, то папа тоже размахивает руками и не понимает тебя, но он всегда кричит: "Где ты столько шляешься, мать твою!"
01.07.04. г. Кишинёв
Про Вовика
Родители маленького Вовика купили ковёр "с сюжетом" и повесили в комнате напротив диванчика, на котором спит Вовик. На ковре пышно зеленели экзотические деревья, буйствовали высокие травы, а среди трав проглядывались кремовые бока пугливых антилоп, пришедших на водопой, которых в засаде поджидал хищный полосатый тигр. Тигра и антилоп разделяла неширокая мутная жёлтая река, змеёй извивавшаяся в песчаных берегах и прятавшаяся за небольшим холмистым выступом, изображённым в верхней части ковра.
Два дня всё свободное время Вовик не ходил гонять мяч во дворе, а всё вдохновенно рассматривал покупку родителей. Его детская фантазия будила в нём целый мир необыкновенных приключений. На третий день, едва забрезжил рассвет, Вовик подхватился со своего диванчика и побежал в комнату родителей. Он быстро растолкал ничего не соображающую со сна маму и задал ей прямой вопрос:
- Куда прячется река, на которой тигр охотится за антилопами?
Мама, чтобы ещё хоть чуть-чуть доспать, буркнула сонными губами:
- В Африку.
- Где живут негры? - уточнил Вовик.
- Да, - чтобы Вовик хоть как-то отвязался, сказала мама.
- А почему тогда негров не видно? - не отставал Вовик.
- А ты получше загляни за то место, куда прячется река, - уже совсем ничего не соображая, почти во сне сказала мама.
- Хорошо, - удовлетворился ответом Вовик и оставил маму в покое. Папа, как обычно, сильно храпел.
Когда родители встали, позавтракали и пошли будить Вовика, чтобы отвести его в детский садик, то войдя в его комнату, они увидели, что Вовик стоит на высоком стуле у ковра и вовсю орудует большим кухонным ножом. Ковёр был располосован ровно в том месте, где река пряталась за холмистый выступ, убегая в Африку, где живут негры.
- Ты что же это, паршивец, наделал? - хором возмутились родители. Особенно возмутился папа, который, как обычно, все главные события прохрапел.
- Я тут не вижу негров, - надулся Вовик. - Там обои, а за ними стена. А ножик её не берёт.
- Ну, слава Богу, что хоть стена тебя остановила! - облегчённо вздохнули родители.
- А у славикиного папы есть граната, - с надеждой сказал Вовик. - Я ему звонил только что. Он обещал...
02.07.04. г. Кишинёв
Мама пришла домой
Мама пришла домой. Продрогла. На улице сыро. Смотрит, а Вовик сидит на кухне перед открытым холодильником. Тот уже посинел от натуги: видно, что давно гудит. Вовика тоже трясёт.
- Боже мой! - с порога восклицает мама и рысью бежит к холодильнику. - Ты что же это делаешь тут? - закрывая дверцу холодильника, возмущается мама. - почему холодильник открыт?
- Я греюсь, - дрожа от холода, выдавливает из себя посиневший Вовик. У него зуб на зуб не попадает. - Я-я-я...
- Да кто же так греется, горе ты моё! - продолжает возмущаться мама.
- Да, мамочка! Я это вчера у Кольки видел! - трясётся Вовик. - У него дедушка так грелся!
- Дедушка? - Ничего не понимает мама.
- Да, дедушка! Ды-ды-ды-ы! К нему пришёл другой дедушка, и они всё время открывали холодильник. Колька сказал, что они согреваются...
16.07.04. г. Кишинёв
Извинение
"Наша редакция с глубоким прискорбием приносит свои извинения многоуважаемому г. Якову Ивановичу Козюлькину за досадную, но так по-житейски понятную, ошибку нашей юной сотрудницы, которая будучи проникнута трепетной любовью к этому большому человеку (воистину он заслуживает этого скромного эпитета) в опубликованном петитом материале на 93-й полосе нашего издания в правом нижнем углу четвёртая колонка от края в слове "великомудр" утеряла последюю, мало чего значащую буковку".
________
P.S. Многоуважаемый Яков Иванович Козюлькин! При этом высопочтеннейше заверяем Вас, что если бы, к несчастью, мы бы подумали, что Вы имеете качество, которое как бы приоткрыла у Вас наша юная сотрудница, то материал о Вас был бы помещён не на 93-й, а уже на 99-й полосе нашего издания и не под рубрикой "Ими гордятся", а в разделе "Прочие мелочи". Редактор Семён Гнутый.
________
P.S. Милый Яков Иванович Козюлькин! Я искренне не желала открывать у Вас того качества, которое я как бы открыла, утеряв последнюю буковку в слове "великомудр". Может, кто и знает, что Вы обладатель этого великого достоинства, но я, увы, об этом как бы только догадываюсь. Мы, молодёжь, вас старых*- пенсионеров должны открывать и представлять нашему читателю. Я очень желала бы с Вами познакомиться потеснее и поведать затем читателю о своих ощущениях Вашего великомуд...Не стану дальше продолжать, ибо боюсь снова утерять какую-либо буковку. С уважением и надеждой на близкую встречу. Стажёр Татьяна Основная
*________
Далее следовало, видимо случайно залитое краской слово "козлов", которое я еле восстановила, используя свой немалый опыт реставрации литературных произведений в Институте Мировой Литературы (выпускающий корректор Юлия Тёлкина)
________
P.S. Г. Козюлькин! Друг! Мы с Юлькой Тёлкиной давние подруги. И мы необыкновенно рады, что имеем приятную возможность выразить Вам наше женское восхищение по поводу неожиданного хода событий. Представляете, если бы я, верстая материал, в котором Вы такой мужчина, такой... В общем, если бы компьютер не съел эту, в общем-то не особенно нужную для Вашего имиджа буковку, мы бы сегодня не имели столь приятной возможности выразить Вам, повторюсь, наше с Юлькой Тёлкиной восхищение. Держитесь, Друг! В этой связи на ум приходят приличествующие данному неординарному событию народные строки:
Как у нашего попа,
У попа, у Яшки
Шындыр-Мындыр - по колено,
Яйца - по чашке...
С любовью, Друг! Верстальщик Миша (Мишель) Гейских
23.07.04. г. Кишинёв
В одном государстве...
В одном государстве, экономика которого никак не хотела работать, бюджет пополнялся, в основном, за счёт таможенных сборов, а низкий жизненный уровень населения поддерживался от сползания к нулю за счет неуклонного сокращения количественного состава граждан (наименее сознательные и более шустрые просто разбегались по разным странам). Также неуклонно, как и численное сокращение наличествующих граждан, в местных СМИ публиковались победные реляции о неуклонном росте темпов развития экономики и скором приближении эры процветания.
Но наступил момент, когда собирать всё больше и больше денег на таможне стало вовсе затруднительно и темпы роста экономики грозили нарушить приятные сновидения властей. В ответ на такие глупые козни темпов власти ввели в бой очередные неисчерпывающиеся резервы: во всех районах своей столицы, пополнявшей государственный бюждет на 90%, срочно за одну ночь были тайно возведены так называемые "внутренние таможенные посты".
Однажды утром ты, как ни в чём не бывало, встал с постели, вроде бы хорошо умылся, пользуясь обмылками, доставшимися тебе от приезжавшей недавно к тебе в гости из другого государства 85-летней тёти, с целью определить, не зачах ли ещё на корню её дорогой племянник в лучах всё возрастающих темпов, ты же после тётиных обмылков обсох на ветру, который забегает к тебе через разбитое на кухне окно, и натощак, ничего не подозревая, обычным порядком поспешил за куском хлеба на другой конец родного города. Пока ты пристраивался на сидении жутко скрипящего, громыхающего всем, что гремит, и переполненного до самой макушки троллейбуса, пока ты пытался кое-как увернуться от тяжеленной грязной сумки, которую поудобнее норовила разместить на твоём лице, делающая вид, что ничего при этом не замечает, давно небритая, но наголо стриженная бульдожьего вида личность, пока... Оказалось, что троллейбус давно стоит. Видимо, обычная пробка из подержанных иномарок.
Прошло долгое время, и ты в нетерпении выглянул в форточку, открытую в любую погоду, потому как любая возможность изменения её гражданского статуса навсегда насмерть была заблокирована ещё в парке, ещё пять лет назад, когда её впервые заклинило. Лучше бы ты в то злосчастное утро не выглядывал вообще, потому что ты тут же начал в изумлении тереть тщательно промытые утром тётиным мылом глаза: впереди вереница транспорта упиралась в размалёванный цветами государственного флага шлагбаум, который со своим таким же ярким собратом ограничивал зону асфальта с другой стороны. С обеих сторон ограниченной шлагбаумами зоны взгляд поражали огромные, выросшие за ночь пилоны, украшенные флагами. На пилонах крупными буквами указывалось название районов города, на которых пилоны располагались. Граница. Возле каждого пилона прятался небольшй синий вагончик с узким окошком, а рядом с ним торчал внушительный щит, с надписью. Перед ближним шлагбаумом возвеличивался щит с надписью "Миротворческие силы", а за шлагбаумом бродили некие синие личности с чёрными повязками на левой руке и чёрными дубинками на съехавших набок под их тяжестью ремнях.
По одному, медленно, транспортные средства гуськом проезжали мимо синего вагончика с твоей стороны, под пристальными взглядами синих людей с чёрными повязками и чёрными дубинками пересекали "миротворческую зону" и останавливались перед другим пилоном, из другого района. Когда твой троллейбус поравнялся со щитом с противной стороны, ты увидел, что на нём объявлялось: "Вы въезжаете на территорию нашего района. Всем выйти из транспотных средств и пройти таможенный контроль." Ты в недоумении выбрался наружу и, с теперь уже ставшими тебе почти родными пассажирами, выстоял длиннющую очередь к узенькому окошку в наспех установленном тоже в эту же ночь синем вагончике. Через это окошко синяя личность в форме наскоро ободрала тебя на n-ю сумму, сунула тебе в нос синюю бумажку и прокричала: "Следующий! Не задерживай!"
Когда, наконец, троллейбус начал вновь двигаться, в его салоне по внутренней связи громко заиграл государственный гимн, а народ в полном непочтении молча сидел и глазел по сторонам: не обнаружится ли ещё какое природное явление в это необыкновенное утро. Подобная процедура дальше повторялась с тобой несколько раз, пока ты не добрался до... Впрочем некоторые граждане перестали добираться куда им было надо, с нервными смешками возвратились в свои жилища, очень вспотев при этом. От досады, конечно. И захотели как-то смыть досаду. Но в их жилищах на тот момент отключили холодную воду за неуплату, а горячей не было столько лет, что даже медные краны за это время успели проржаветь начисто. Так в поту эти вернувшиеся по домам в то утро граждане и стали строчить разные уничижительные письма в местный парламент. Ну, парламентарии, понятное дело, в это утро были срочно отправлены на посадку элитных деревьев, завезённых в страну по случаю её очередного темпа роста. То есть роста её темпа. Очередного. Так что, как потом оказалось, вспотевшие граждане успели обсохнуть и прийти в себя. А там власти повысили цену на холодную воду и граждане по одному стали искать природные источники, где бы достать водицы, чтобы не убегать за границу.
К сожалению, водицы достать не удалось, потому что санэпидстанция срочно закрыла все городские источники на профилактику с целью борьбы с различными палочками и предложила закупать воду в бутылках в фирменных магазинах, которые она успешно и давно крышевала.
Тут государственная и частная почта, весь подвижной состав уже было вконец захиревшей железной дороги так заработали, с таким надрывом, что начали перегреваться всякие радиоволны, провода и остальные прочие рельсы и шпалы: народ молил разных там родственников о срочной помощи. Хотя бы на воду. Со всех сторон в страну потекли деньги...
Через короткое время после начала этих событий все средства массовой информации этой страны в один голос сообщили своему народу, что экономика страны как никогда стабильна, темпы её роста выросли на очередные 14%, а это в несколько раз выше таких же темпов передовых мировых держав...
24.07.04. г. Кишинёв
Из объяснительной...
Когда мой начальник начал кричать на меня (на испанском языке), что я плохо работаю, я тут же возмутился (на государственном языке), но чтобы не вступать в дальнейшие пререкания с руководством, вышел на свежий воздух для нейтрализации кислородом большого количества адреналина, которое выделяется моими больными надпочечниками всякий раз, когда на меня кричит начальство. Простояв на свежем воздухе достаточное количество времени и решив, что кислород уже уничтожил весь мой адреналин, я подумал: "Ах ты, падла! Ругаешь меня да ещё и не на государственном языке!". Я тут же вернулся в кабинет начальника и дал ему два раза в глаз. Кажется, - в левый.
Объясняю по существу дела, что всему виной является плохая экологическая обстановка в нашем городе, из-за которой уровень кислорода в атмосфере близок к нулю, что не позволяет эффективно окислять любой адреналин, то и дело вырабатывающийся у больного населения.
Пострадавший от экологии Тудор (бывший Фёдор) Плэмэдялэ (бывший Квашня)
28.07.04. г. Кишинёв
Чего не сделаешь ради детей!
В одной стране жили две её Части.
Одна Часть звала себя Автохтонией, а другую она называла Фиавтохтонией. Автохтония была агрессивной, правила всей страной и сама называла другую её Часть, которая была терпеливой, так, как считала нужным. Всем и вся распоряжалась в стране Автохтония, а Фиавтохтонии доставались только постоянные упрёки да непосильные налоги, которые та должна была вовремя поставлять к дому Автохтонии, но не дальше её порога.
Однажды Фиавтохтония заикнулась было, что хотела бы хотя бы одного своего ребёночка послать учиться в одну из тех стран, в которых учились дети Автохтонии, на что получила естественный отказ: дети Автохтонии - это кадры для страны и фиавтохтонцам такая ноша будет не под силу, потому что они, фиавтохтонцы, пришельцы в эту страну неизвестно откуда и в силу этого не могут быть патриотами этой страны. Зачем напрасно тратить на них государственные деньги, если они выучатся и всё равно сбегут в другие страны!
Фиавтохтония робко возразила, что хотя она в своём имени и имеет приставку "Фи", данную ей Автохтонией, но она, Фиавтохтония, ничем не хуже самой Автохтонии и желала бы, чтобы к ней отношение было бы не таким, как к Золушке со стороны её мачехи. Автохтонии такая смелость со стороны плебейки очень не понравилась. Более того, Автохтония просто рассвирепела от такой наглости. Её, Автохтонию, уравнивать с какой-то пришлой! Чтобы в дальнейшем подобный вопрос даже и не думал возникать, Автохтония тут же набросилась с палкой на Фиавтохтонию и начала ту избивать, приговаривая: "Я те покажу, кто в доме хозяин!". При этом старалась попасть палкой по голове да так распалилась, что чуть было не нанесла серьёзное увечье Фиавтохтонии. Благо та успела броситься в реку, протекавшую в то время по территории этой страны, и скрыться на другом её берегу. Автохтония плавать не умела и махнув на всё рукой, преследование Фиавтохтонии прекратила: ничего, мол, скоро вернётся, как миленькая! Захочет есть и вернётся! Вот тогда я с ней и дорассчитаюсь!
Но Фиавтохтония, на удивление, не вернулась ни к вечеру, ни на следующий день. Зато прислала своей притеснительнице срочную телеграмму (тогда между берегами реки связь ещё работала): мол, довольно, натерпелась, всё, мол, хватит, через край... И т.п. В конце телеграммы крупно жирнело слово "Развод". "Ещё чего не хватало! - прочитав телеграмму, искренне возмутилась Автохтония. - Ежели каждый так станет отделяться, то с кого тогда налоги собирать будем? Да кто тебе какой-то там развод даст? Да..." Тут она быстро связалась с учителями по плаванию, наскоро у них подучилась плавать и бросилась в реку, чтобы переплыть на другой берег: "Вот я тебе ужо!..."
Да не тут-то было! На том берегу у Фиавтохтонии оказались хорошие друзья. С их помощью Автохтонию сильно пощипали и она, не солоно хлебавши, вернулась на свой берег. Но злобу затаила. Разорвала связь с другим берегом и решила действовать против Фиавтохтонии не мытьём так катаньем: принялась платить деньги, вступая в разные заграничные союзы, и уговаривать своих новых друзей не принимать за границей Фиавтохтонию, не торговать с ней, устроить ей экономическую блокаду (это слово в те времена сильно вошло в моду и означало не давать ни есть, ни пить).
Ну, конечно, новые подружки за оплаченные деньги так и стали поступать в отношении Фиавтохтонии. Правда, сперва попытались её уговорить вернуться в лоно прежней семьи. Сулили при этом разные блага и обещали всяческие неприятности. Фиавтохтония не поддавалась ни на какие посулы и угрозы: ей помогали её друзья и она жила в своё удовольствие.
Между тем Автохтония без Фиавтохтонии всё хирела и хирела Её дети начали разбегаться из страны по разным заграницам, чтобы не умереть с голода. Тогда она решила зайти с другого бока: послала своих гонцов к детям Фиавтохтонии, те переплыли реку и принялись сооблазнять несмышлёнышей возможностью свободы вызезда в любую страну мира: смотрите, детки, мол, если сможете научиться плавать в сторону нашего берега, то дорога в мир вам станет открыта так же, как и нашим детям. А ваша мать, мол, не даст никогда вам такой возможности. Да если и захочет дать, то вас с вашими непризнанными документами не примут ни в одной стране мира. Автохтония надеялась, что если дети переплывут на её берег, то за ними вернётся и сама Фиавтохтония и будет снова с кого налоги брать.
И шаг Автохтонии почти удался: часть детей Фиавтохтонии захотела увидеть мир, как его уже видят их сверстники с другого берега. Они создали специальные школы, в которых начали учиться плавать в сторону другого берега. Как ни пыталась им разъяснить истинную правду Фиавтохтония, ничего не получалось: дети есть дети! Чем больше старалась их вразумить Фиавтохтония, тем больше они упорствовали в своем стремлении учиться плыть к другому берегу. Сильно манила сказочная заграница! Но мать есть мать! Она не может оставить на произвол судьбы своих детей. И она их не оставила: закрыла специальные школы, несмотря на то, что дети сильно возмущались и даже отказывались есть вообще всякую пищу, а не только разные мороженые-пирожные.
А что тут началось на другом берегу! Автохтония принялась вопить благим матом, что Фиавтохтония, де, совсем без неё выжила из ума: совершает геноцид над детьми (это слово в те времена привезли из далёкой страны Африки, в которой белые истребляли чёрных), не давая им свободно учиться тому, чему они хотят учиться. "Свободу нашим детям!" - на всех мировых перекрёстках кричала в истерике Автохтония. Сбежались все оплаченные иностранные подружки, поплыли к непокорной Фиавтохтонии и принялись её увещевать: не трогай, мол, детей. Это - святое. Пусть делают, что хотят. Дети же хотят всего-навсего быть патриотами на той стороне! Посмотри, Фиавтохтония: на той стороне уже не осталось почти ни одного патриота. Все разбежались по разным странам-государствам. А у тебя их полно! Имей, мол, совесть, Фиавтохтония, поделись патриотами! Пусть и на той стороне их хоть немного появится!
Последний довод заставил задуматься Фиавтохтонию. Долго думала Фиавтохтония. Она была очень терпеливая и очень добрая. Действительно, думала она, без патриотов любой стране очень плохо. Патриоты, если они настоящие, не только любят свою страну, но и понимают патриотов других стран. Это должно сближать людей. Объединять их во всеобщей любви каждого к своей Родине. "Вопрос, конечно, интересный!", - подумала вслух Фиавтохтония (так любили витиевато выражаться в те времена) и сказала: "Надо делиться!". Она снова открыла школы плавания, закрытые ею накануне. Но теперь в них стали учить плавать и в сторону своего берега...
Прошло немало времени и всё большее количество детей обучалось плаванию в обе стороны, в стороны обоих берегов. Они переплывали с одного берега на другой, с одного берега на другой и тут началась такая путаница, что ни Автохтония, ни Фиавтохтония уже не могли разобрать, где чьи дети. Рассказывают, что в конце концов Автохтония и Фиавтохтония помирились и стали подругами: чего не сделаешь ради детей! А река, которая их разделяла, покрылась мостами и тогда совсем отпала необходимость учиться плавать, чтобы ходить друг к другу в гости...
04.08.04 г. Кишинёв
Недавно по местному телеканалу сообщили...
Недавно по местному телеканалу прошло сообщение о нашествии клещей на наше признанное всем мировым сообществом европейское государство (о непризнанных я вообще промолчу: там такое, наверное, творится!). Озабоченный автор сообщения, делая страшные глаза, предупреждал, что эти паразиты за последние годы так порасплодились, что существует реальная угроза, что они в тебя вцепятся сразу, как только ты выйдешь на какой-нибудь лужок или, не дай Бог, осмелишься появиться в лесопосадке. Особенно яростно неистовствуют клещи - переносчики энцефалита. Автор утверждал, что их в нашем свободном государстве видимо-невидимо и что в каждый данный момент хоть кого-то они да сосут, заражая жертву страшным заболеванием.
Я тут же бросился к домашнему энциклопедическому словарю. Он, хотя и советский, но всё же кое-как поведал мне, что энцефалит - это заболевание головного мозга, сопровождающееся серьёзными осложнениями, вплоть до полного паралича... Дальше я не стану ни вас, ни себя пугать. Во всяком случае после укуса таким клещём начинает, как минимум, сильно болеть голова и ты принимаешься, мягко говоря, вести себя неадекватно.
Меня тоже в своё время кусал клещ. Правда, довольно давно. Когда мы ещё жили при полнейшем застое и иногда позволяли себе на восьмикопеечном бензине всей семьёй отправляться не только в ближайший, но и в более дальние лески. Машину загоняли прямо под деревья и нежились, раздетые, в лесной прохладе. Где-то в этой опасной расслабленной обстановке меня и подкараулил коварный клещ. Я потом долго с ним возился, пока в поликлинике его не попросили вон. Потом я забыл об этой неприятности. Но когда посмотрел телепередачу про клещей, орудующих уже в цивилизованном европейском обществе, я принялся анализировать своё поведение от момента моей последней встречи с клещём. И оно мне очень не понравилось. Точно, что я вёл себя все эти годы неадекватно. Но пока я проводил самоанализ, мне пришла в голову мысль подшутить над своей женой, которая вместе со мной только что посмотрела эту злополучную передачу и тревожно, но молча (что очень-очень редко случается!) глядела на меня. Другой бы, конечно, воспользовался таким благоприятным обстоятельством для полного отдохновения от постоянных различного рода вопросов-заморочек, самоответов, мгновенных обид, упрёков, пения песенок, постоянного усаживания тебя за обеденный стол, когда тебе и так хорошо за компъютерным, и т.п. Но я, как я сейчас уже хорошо понимаю, повёл себя неадекватно в этих обстоятельствах и задал (молчавшей!) жене свой вопросец:
- Маня, - говорю, - ты что это так испугалась? - И продолжил: - Теперь тебе, наконец, понятно, почему у нас тут народ такой перевозбуждённый? Всякие конфликты-блокады, ОБСЕ, страны-гаранты, приливы-отливы? Почему народ так разбегается по разным странам? Почему на днях даже сам Президент срочно улетел на лечение в Карловы Вары, несмотря на то, что из Приднестровья перестало поступать электричество? А бабушка твоей знакомой даже в свои 70 лет (учти, у неё ведь медицинское образование!) бросила своего больного старика и умотала в Италию? Ещё факты? Ну, так тебе понятно?
- Нет, - строго сказала Маня. - Чего это ты завёлся, словно тебя кто-то укусил? Причём тут наташина бабушка с её медицинским образованием? Кстати, средним?
- А вот при том, - гнул своё я, - клещи всех покусали! Энцефалитные! Те, в кого они впились, т.е. тронутые, те - перевозбуждённые! А остальные, ещё нетронутые, всё поняли и драпанули вон! Кто - спасаться, а кто - лечиться! Я ещё не учёл 1800 укушенных бродячими собаками только за последний год и только в столице! И членов их семей! - Я серьёзно смотрел на жену и ждал, что она в меня сейчас чем-нибудь запустит.
- Точно! - вдруг вскричала Маня. - Точно! То-то мне вчера Ноннка (её подружка- пенсионерка) орала в трубку: "Машка, осторожно! Клещи! Даже - в подушках!". - А я не придала этому никакого значения! А тут... Да смотри же: ведь я уже и так вся покусанная! - и она в панике протянула мне свою руку, на которой красовались две большие малиновые блямбы...
07.08.04 г. Кишинёв
Жёны: умная и не очень
Небольшая комнатка. В ней писатель творит свой очередной шедевр. Его жене потребовалось зайти к нему в комнату во время творческого процесса: ей срочно приспичило поискать там какую-то вещь, которую она обыскалась в остальных трёх комнатах, в которых после её поисков всё уже стояло вверх дном.
Что делает в таких случаях не очень умная жена. Она несколько раз подряд открывает дверь в комнату, где творит её супруг, давая ему понять, что ей срочно надобно войти. Писатель делает вид, что на это никак не реагирует, но строчки у него на бумаге становятся неровными и замедляют свой бег. После того, как жена в очередной раз просовывает в дверь свою всю в сплошных бигуди головку и у писателя ветром сдувает со стола на пол его творения, он вдруг в бешеной ярости срывается со своего стула, швыряет в супругу будильником, случайно подвернувшимся ему под руку, и истошно вопит: "Пошла вон отсюда, дура!" Жена, как ужаленная, мгновенно отскакивает назад, прикрываясь дверью, в которую тут же бухает будильник, бежит, громко рыдая, на кухню и принимается доедать вчерашний борщ. Писатель в ярости лупит кулачком по столу и продолжает истошно вопить: "Дура! Дура! Потерял нить! Забыл сюжет! Вот дрянь! Просил же не входить, пока я творю! Просил же! О мой сюжет!.."
А вот что делает умная жена. Она тихонько идёт в кладовку, насыпает там полмиски муки, потом забалтывает тесто и начинает печь любимые оладушки своего супруга, постепенно нагоняя аппетитный запах сквозь щель под дверью в комнату писателя. У того тут же по сюжетной линии героиня принимается печь блины своему возлюбленному, только что тайно примчавшемуся к ней от своей жены-стервы. Писатель в полнейшем упоении выбрасывает на бумагу строчку за строчкой. Запах любимых оладушек с блинами обволакивает писателя. В этот чарующий для него момент осторожно отворяется дверь в его комнату и нежный-нежный голос его супруги вместе с ворвавшимся полной волной запахом оладушек успешно завершают задуманную операцию: "Коленька, милый! Пойдём! Твои любимые оладушки! С пылу-с жару! Пока горяченькие!" "Коленька", еле сдерживая резко набежавшую слюну, тут же начинает двигаться в направлении своей супруги...
Всё. Комната свободна. Теперь можно и в ней перевернуть всё вверх дном, пока писатель, наслаждаясь, будет макать в сметану румяные горячие пышные оладушки, осторожно их отправлять в широко открываемый рот и с упоением запивать всё это холодным кисло-сладким вишнёвым компотом...
28.08.04 г. Кишинёв
История одной награды
В одном государстве жил-был певец. Он обладал не только прекрасным бархатным баритоном, но и был всенародно любим за прекрасные песни о своём народе. Но любви народа хватало только на любовь к певцу, а для своего непевца-Президента её совсем не оставалось. Поэтому всякий раз, когда певцу надо было выезжать на гастроли за пределы государства и антрепренёр певца приходил в канцелярию Президента за разрешением на поездку, он получал всегда один и тот же холодный ответ: "Ещё не вышел рожей!". Так продолжалось долгое время, пока народ совсем не взбунтовался: мол, как же так: и сам не поёт, и другому не даёт!
А тут к этому времени были уже проедены все иностранные кредиты, на горизонте чётко вырисовывались силуэты новых президентских выборов, совсем непатриотически настроенные соцэлементы настойчиво предвещали наступление времён, когда вместо песен всё время хочется есть и есть и когда вместо хлеба - одни зрелища да раздача наград типа "За гражданские заслуги", свидетельствующих о чёткой воинственно-мирной сути государства...
Кстати, о наградах. Их раздача уже шла полным ходом и проходила по обычной президентской схеме: в огромном парадном зале государства, повсюду увешанном государственными флагами, на (да простит меня Господь!) золочёном алтаре крупными изумрудными буквами по его верхней части было выведено: "Р а з д а ч а" и сам процесс напоминал раздачу супа в заводской столовке. Каждый молча подходил к раздаче, молча получал свою миску супа в виде красной коробочки и молча же удалялся на своё место, положенное ему по принятой здесь чёткой иерархии.
В один из таких моментов Президенту пришла в голову счастливая мысль: "Надо хорошо наградить известного и любимого народом певца! Самой высокой наградой! Пусть запоёт мне осанну! Народ поверит ему! Тогда выборы будут у меня в кармане!". Сказано-сделано! Да, но как же выпируэтить плавный переход от "Не вышел рожей" к высшему ордену? Вся придворная знать сбилась с ног, ища хоть какой-то выход. Нашла, конечно. Наступало 55-летие певца. Повод, правда, кисловатый, больше похожий на отправку нищей учительницы на пенсию, но... Больше зацепиться было решительно не за что. Поэтому объявили всенародно об Указе о награждении... Заготовили Орден... Но всё же... всё же... самих устроителей-предводителей это никак не вдохновляло... Надо было предпринять всё-таки нечто оригинальное. Дабы народ всё-таки удивить. Думали-думали и решили на оборотной стороне Ордена мелко-мелко выгравировать торжественную речь Президента по случаю награждения певца... Срочно написали речь. Главный Придворный срочно вызвал к себе самого лучшего в стране гравёра, всучил ему бумажку с речью и Орден и приказал: "Чтобы завтра к утру всё было готово! Да гляди, дурак, ничего не напутай, не то..." Гравёр молча рассовал по карманам всученное ему и удалился. По дороге к дому, он зашёл к своему куму, с которым они хорошо отметили день окончания войны в Эфиопии. Так как война в Эфиопии длилась долго, то на торжество по поводу её окончания кумовья потратили не один тост...
Когда, наконец, гравёр оказался дома, он тут же принялся исполнять приказание Главного Придворного: кое-как вытащил из одного кармана Орден, который оказался обсыпанным табаком от сигарет, а из второго кармана он с большим трудом выковырял смятую бумажку, на которой нетвёрдой рукой его кума было криво выведено: "От кума на память!". А чуть пониже этой надписи красовалась шикарно нарисованная огромная дуля... Всё это тщательно и было перенесено гравёром на президентский орден...
14.09.04. г. Кишинёв
Происшествия
(Из срочного сообщения сильно независимой газеты "Воронье крыло").
"Как сообщило сегодня информационное агенство ОГОГО, два происшествия случились недавно в нашем городе. Первое происшествие имело место на улице Чемоданной недалеко от её пересечения с проспектом Своего Рошки.
По свидетельству очевидцев, на переходившую эту небезызвестную улицу подслеповатую старушку набросились двое крепких постовых дорожной службы. Чудом почуявшая роковую опасность бабуля, явно не по-старчески сиганула было назад к тротуару, откуда она только-только отправилась на другую сторону улицы, да не тут-то было: дюжие полицейские метнулись ей наперерез, один из которых, кинувшись бабке в ноги, ловким приёмом уложил её на пыльный асфальт, а другой в момент натасканным способом применил к ней удушающий приём, после чего старушка застучала одной рукой об асфальт, давая знать нападавшим, что она попалась на болевой приём и просит дальше его не продолжать.
После этого стражи наших дорог быстро поставили присмиревшую бабульку на неслушавшиеся её ноги и крепко держа ту с обеих сторон за дрожащие руки, медленно препроводили, стараясь идти чётко в ногу, на другую сторону улицы. Почтительно откозыряв старушке, оба полицейских вернулись на свой важный государственный пост для дальнейшего продолжения несения службы. Бабушка присела тут же на тротуар и долго приходила в себя от всего произошедшего с ней, не отвечая на вопросы пешеходов и отказываясь от предлагаемой ими помощи свести её в ближайшую больницу. Наконец, примерно через полчаса, кое-как отдышавшись от всего случившегося, бабуля, шатаясь, с места происшествия удалилась.
Другой не менее странный случай произошёл с одиноким 95-летним пенсионером Р., проживающим по улице Свежеконфликтной в доме 14/2. Рано утром к нему заявились два работника Собеса, которые принялись тотчас звонить в дверь. Пенсионер был довольно глуховат и на звонки дверь не открыл. Не помогли и крики в дверь соседей, поднятых, как по тревоге, с постелей работниками Собеса. Видно, что пенсионер был ещё "не проснувши". Но пришедшие не растерялись и тут же вызвали на подмогу городской дежурный наряд службы по чрезвычайным ситуациям, который враз подорвал пиротехническим зарядом бронированную дверь пенсионера, чем обеспечил работникам Собеса непосредственный доступ к телу глухого старика, который действительно был ещё не проснувши.
Кое-как приведя в полное сознание начавшего было заикаться 95-летнего пенсионера, работники Собеса принарядили его в обнаруженные ими тут же в шкафу белые одежды и в присутствии ещё не совсем проснувшихся потревоженных соседей и подрывников его двери торжественно вручили дедушке сорок местных помятых тугриков, после чего с достоинством удалились.
Редакция газеты в сильном волнении обратилась за разъяснениями по поводу происшедшего к городским исполнительным властям. Вот что сообщил редакции временный поверенный в городских происшествиях г. Пэкалэ: "Ничего необыкновенного не произошло. Все государственные служащие действовали в полном соответсвии с постановлением властей города "Об обеспечении проявления заботы о пожилых людях в связи с наступающим Днём Пожилых Людей", согласно которому дорожной полиции предписывалось оказывать всемерную помощь пожилым людям при переходе ими улиц в неположенных местах, а работникам социальных служб доставлять и передавать лично в руки всем лицам, достигшим 95-летнего возраста, по 40 тугриков деньгами, чтобы, наконец-то, эти почтенные граждане смогли купить по одному кг лечебной мягкой докторской колбасы и наесться ею, почувствовав при этом искреннюю заботу о них избранных ими властей."
01.10.04 г Кишинёв
Проект заявления о вступлении страны в Европейский Союз
Проект
Заявление
о вступлении страны в Европейский Союз
_____________________________________________________
н а и м е н о в а н и е с т р а н ы
В Пречестную и Великую Обитель Пресвятого и Пречестного Владыки нашего, честного и славного преподобного Отца нашего, чудотворца Председателя Европейского Союза с братиею, почти царь и Великий Красный Президент челом бьёт.
О, увы, мне, грешному, горе мне, окаянному, ох мне, скверному, пытающемуся на таковую высоту дерзати. Бога ради, господа отцы наши, молю вас помиловати мя от наказания за такое дерзкое начинание. Я, брат ваш, недостоин вас, но по евангельскому словеси сотворите мя, яко единого от членов ваших. С тем же припадаю к честных ног ваших стопам и надеюсь на вашу европейскую милость. Бога ради, не судите за таковое начинание, ибо писано есть: ты - мне, а я - тебе. Ибо подобает вам, господам нашим, и нас, заблудших во тьме гордости и сени смертельной прелести тщеславия, ласкосердства и ласкосердия просвещати. И не мне, псу смердящему, вас учити, в чём нас, глупых, наказывати и в чём просвещати. Ибо сам всегда - в пьянстве и в блуде, в прелюбодействе и в сквернословии, в кровопийстве, в граблении, в хищении, в ненависти и во всяком злодействе. А у вас дома, среди вас, есть Великий Светильник, Великий Учитель - Капитал. И на его гроб вы всегда зрите, и от него всегда просвещаетесь. Потом же, великие подвижники его, великие ученики его, а ваши наставники - Великие Американцы - тоже присутствуют повседневно с вами и посему вы постоянно учитесь, наставляетесь, утверждаетесь, да и нас, убогих и нищих, благодатью этого просвещаете. Мы же, сирые, постоянно слыша об этом божественном житии, сильно возрадовалися и мечтаем обрести чрез наше скверное сердце и окаянную душу нашу при помощи Божия невоздержанию нашему Пристанище Спасения. Своё же любое обещание положим вам с радостью.
К сему вам, милостивцам нашим, я, окаянный, преклоняю главу свою и припадаю к честным стопам вашим, вашего же на сем благословения прося.
Президент
21.10.04.г. Кишинёв
Новости из мира инструкций
Один человек выпал с балкона 10-го этажа. На неожиданный и глухой стук о землю, создавший впечатление, будто с какого-то балкона выпал тюфяк, люд, находившийся от места события неподалёку, тут же пообернулся и заметил на земле распростёртое тело. Народ не замедлил тут же сбежаться к месту падения тела. К большому удивлению сбежавшихся пострадавший был жив, хотя и сильно разбился. Как водится, кто-то побежал вызывать "Скорую", а кто-то - оказывать первую помощь. Те, которые оказывали первую помощь, нашли возле тела депутатское удостоверение, видимо, случайно выпавшее из кармана пострадавшего, и вполне резонно сделали заключение, что г. депутат в данном доме на последнем, 10-м этаже, на балконе которого в голос рыдала полуодетая дама, никак не может проживать, ибо это не соответствует никакой практике нашего молодого демократического европейского государства. И поэтому те, которые оказывали первую помощь, не спешили отыскивать домашний адрес тела потерпевшего на предмет оповещения его возможной законной супруги о случившемся.
Пока оказывали первую помощь пострадавшему, примчалась "Скорая". Выскочивший из неё доктор мигом подбежал к пострадавшему и тут же схватился за голову. Сначала - за свою, т.к. не смог понять, как может быть жив человек, половина мозгов которого вытекла на сильно примятую упавшим телом мокрую землю. Потом - за голову депутата как за голову простого смертного. И принялся было вправлять в неё вытекшую наружу половину мозгов. Но когда те, которые оказывали до этого первую помощь, показали доктору найденное рядом с телом депутатское удостоверение, доктор немедленно перевёл своё внимание и прилагаемые усилия на заднюю часть тела пострадавшего, именуемую в народе как часть "Ж". В ответ на недоумённые и сильно возмущённые возгласы собравшихся доктор спокойно пояснил, что коль скоро г. депутат жив, то по инструкции в первую очередь следует восстанавливать его часть "Ж", т.к. именно в ней, в этой части, сосредоточены все центры, которые определяют депутатскую деятельность. Оставшиеся же мозги можно собрать в коробку и попозже.
09.01.2005 г.
Рецепт управления страной
Каков основной закон управления страной? - такой вопрос был задан на одной из пресс-конференций известнейшему экономисту, путешественнику и этнографу г. Чайникову.
- Ответ больше лежит в медицинской плоскости, - с грустью ответил большой учёный. - Если у руководителя страны, простите за натурализм и некоторую пошлость, от которой в данном конкретном ответе никуда не деться, как никуда не деться от современной высоко... Ну в общем, понятно, какой медицины.. Так вот, если у руководителя страны, не стоит, то в это же время в экономике страны всё стоит. И наоборот: если у руководителя стоит хорошо, то и в экономике страны всё движется.. Отсюда следует неизбежный научный вывод: руководителем надо избирать либо женщину (вспомните г. Маргарет Тэтчер из Великобретании), либо мужчину, которому предварительно надо пройти медицинское обследование... Иначе всегда весь бюджет страны будет формироваться за счёт таможни...
17.09.04. г
Детская логика
Трёхлетняя Маша протягивает своему дедушке детскую книжку и решительно требует: "Читай!" Дедушка куда-то задевал свои очки и пытается кое-как разобрать то, что написано в книге. "Зо-ло-то-й ... пер-сте-нёк ..., - с большим трудом разбирая слова по слогам, читает дедушка. Бы-ло ... у... ма-мы.... три..." Маша в нетерпении вырывает книжку из рук дедушки: "Дай сюда! Я вижу, ты букв совсем не знаешь!"
21.08.2004 г.
Несущие свой крест...
(Повести и рассказы)
Кишинёв - 2005
CZU 821.161.1(478)-1
П - 8
Несущие свой крест, Борис ПАХОМОВ, Grafic - Design, 2005 г., Кишинев, (проза), 244 стр.
Представляемый читателю сборник повестей и рассказов - это раздумья поэта и прозаика Бориса Пахомова о прожитом и пережитом, о нелёгких военных и послевоенных годах, о не простой современной жизни, о судьбах людей целой эпохи, охватывающей период с 1943 года до наших дней. Сегодня, когда серьёзная глубокая литература в жизни общества находится далеко не на переднем плане, такие книги способны пробудить к ней новый интерес.
Книга Бориса Пахомова интересна, актуальна, с юмором.
--------------------------------------
Редактор: Дмитрий Николаев, чл. СП России
Составитель: Алла Коркина, чл. СП Молдовы
Набор, верстка: Евгений Лукьянчук.
Descriеrea CIP a Camerei Na?ionale a Car?ii
ПАХОМОВ, Борис
Несущие свой крест: повести и рассказы \ Борис Пахомов.-.Ch.: Grafic - Design, 2005.- 244 p.
ISBN N 9975-9758-8-9
100 ex.
821.161.1(478)-1
No Б.Пахомов
ISBN 9975-9758-8-9
Тимка
"Прощание славянки "
Всю ночь мама и дядя Ваня о чем-то усиленно шушукались за занавеской. Может и не совсем всю-всю ночь. Тимка точно не знает, потому что он, в конце концов, заснул и ему приснилось, что наконец-то к ним с фронта, где он бил фашистов, приехал отец, весь в орденах, в синей с красным околышем фуражке и с пистолетом в желтой кожаной кобуре. На одной и на другой руке отца красовались немецкие трофейные часы, похожие своим лучистым блеском на те, на которых на прошлой неделе подорвался тетинастин Колька. Тогда они втроем, Тимка, Колька и Витек, пошли в горы за каштанами и уже почти углубились в лес, когда вдруг увидели на кусте бузины у поворота неширокой тропы, по которой они шли гуськом, что-то лучистоблестящее. Колька, шедший первым, с криком "Гля, ребя, часы!" рванулся вперед и добежав до куста, радостно схватил добычу... Тимка помнит только, что его вдруг сбило с ног и бросило на разросшийся дикий орешник, позади него стоявший стеной. Когда же Тимка пришел в себя, так и не успев испугаться, то почувствовал, что сильно пахло чем-то горелым. Горько горелым. Эта горечь забилась ему в нос и в рот и заставляла надсадно кашлять. Еле поднявшись тогда на ноги, Тимка, шатаясь, сделал несколько шагов в ту сторону, откуда только что кричал Колька. И тут же его, Тимку, стошнило: он увидел белобрысый колькин затылок. Голова Кольки застряла в стене орешника, будто ее кто-то только что туда приладил, а тело... Тела не было! В нескольких метрах левее того, что осталось от Кольки, на боку лежал Витек, белый, как полотно. Когда же Тимка, наконец, добрался до него, то увидел, что Витек мертв: у него была оторвана по самое плечо рука, а на животе - вся рубаха в крови. Вот они какие часики-то немецкие! Когда Тимка увидел отца с часами, да еще и на обеих руках, он в ужасе так заорал, что тут же проснулся. И в душе обрадовался, что удалось проснуться и тем самым остаться в живых... А отец? Где-то он сейчас? На тимкины вопросы об отце мама отводила глаза в сторону и односложно буркала:
- Воюет! Чего ему сделается! - и сразу находила Тимке какое-нибудь занятие. Тимка недоумевал: "Чего это она так сердится?" и начинал приставать с расспросами об отце к дяде Ване. Дядя Ваня солидно поправлял свою черную морскую фуражку с блестящей кокардой посередине околыша, фуражку, с которой он расставался разве только в постели, и принимался объяснять Тимке, что когда война кончится, все разойдутся по домам.
- И отец мой приедет? - назойливо допытывался Тимка.
- Приедет, а то как же, - подтверждал спокойно дядя Ваня.
- А вы куда поедете? - не унимался Тимка.
- Я погребу к себе на родину. В Питер. Сеструхи мои там, Лида и Шура, остались. Должно быть живы. Так думаю. - И дядя Ваня, как обычно, начинал рассказывать, какой это славный город Питер, сколько там всякого-разного, интересного.
- А Вовка как, братан мой? Он же ваш сын? Или как? Его куда?
- Об этом мамка твоя лучше нас с тобой знает, - быстро закруглялся сильно разговорчивый до этого момента дядя Ваня и уходил вразвалочку куда-нибудь по очень срочным делам, подметая весь путь своего следования широченными морскими клешами.
... Бабушка, кровать которой стояла впритык к тимкиному топчанчику, глухо храпела и временами что-то жевала во сне. А за занавеской, как и с самого вечера, Тимка снова услыхал быстрый настойчивый шепот матери. Разобрать ничего было нельзя, но шепот был настолько громким и напористым, что Тимке показалось, что мама вот-вот заругается в голос. Наконец, словно отбиваясь, что-то в ответ пробурчал дядя Ваня, потом опять зашептала мама, но шептала уже спокойнее, тише. Потом оба стихли и долго ворочались, и мама иногда стонала. Старая бабушкина кровать, на которой когда-то спал бабушкин брат, покойный дед Лукич, скрипела и скрипела.
- Уж лучше бы они шушукались! - с досадой думал Тимка. - Такущий скрип! Всех клопов перебудят! Чего бы я так ворочался и стонал! - Он недовольно повернулся на бок и стал бесцельно смотреть в темноту. Бабушка храпела. Наконец, за занавеской скрип прекратился и оттуда опять послышался глухой шепот...
Утром Тимку разбудила бабушка. Солнце уже вовсю било в открытое настежь окно. Откуда-то сверху, наверно с раскидистой ивы, росшей чуть в стороне от окна, слышался встревоженный стрекот беспокойной сороки. Докукарекивал свое бабушкин петух Серьга, самый заядлый и драчливый петух из всех петухов их поселка: никто из чужих не мог самовольно войти в бабушкин двор. А если кто-то нарушал петушиное табу, то незамедлительно подвергался такому злому нападению Серьги, что не успевал ничем от него отбиться и, поверженный, со срамом покидал бабушкин двор.
- Вставай, унучек, вставай! - бабушка сидела около тимкиной головы и нежно ворошила его волосы. - Вставай, маленький! Все давно порасходились, а у нас с тобой сегодня большие хлопоты. Большие, унучек, ой какие большие! - Тимка нежился, как кот на солнышке, под доброй бабушкиной рукой и только что не мурлыкал. Но не вставал. Даже снова закрыл глаза да так и лежал, нежась. А когда случайно открыл, то его негу, как рукой сняло: на него глядели другие бабушкины глаза. Не те, которые вслед ее приговорам излучали, как всегда, бездонную нежность к нему, маленькому, излучали добрую заботу обо всем , что хоть как-то было связано с ним, с Тимкой. И не те, которые он привык видеть, когда бабушка вела себя с ним ровно и даже равно. Тимка глянул на бабушку неожиданно для нее, глянул, когда не должен был глядеть. И поэтому бабушка не успела спрятать от него эти глаза. В них Тимка увидел что-то такое, что сильно встревожило его маленькую душу, чего он никогда прежде в бабушкиных глазах не видывал. В этих глазах было что-то про него, Тимку, что-то для него неизвестное, скорее плохое, чем доброе, может быть даже дурное и опасное.
- Бабушка! - Почему-то шепотом проговорил Тимка, - бабушка! Ты что-то про меня знаешь? - не прошептал даже, а будто душою прокричал, потому что бабушка сильно вздрогнула и, как от кипятка, быстро отдернула свою руку от его головы.
- С чего это ты взял, Тима? - через мгновение ровно ответила она, глядя на Тимку уже теми, старыми, глазами. - С чего ты взял? - поспешила повторить она снова. - Вставай, вставай! Заспался, поди! Оттого и выдумываешь! - и слегка нежно потянула его за вихры. Тимка не поверил ей и продолжал с тревогой смотреть на нее. - Ты вот что, Тима, - вдруг посерьезнела бабушка, - ты сядь-ка да послушай, что я тебе скажу. - Тимка, давно уже внутренне напрягшийся, теперь сразу покрылся весь гусиной кожей.
- А где мама? - вдруг заплакал он, поднимаясь, - где мама?
- Ах ты мой маленький, несчастный ты мой унучек! - совершенно неожиданно для начавшего реветь Тимки запричитала, не выдержав напряжения, бабушка, и прижала его лицо к своей теплой, пахнущей жареными семечками подсолнуха груди. - Ах ты моя сиротинушка! - Тимка, начавший было при этом громче реветь, оказавшись за бабушкиными маленькими руками, почувствовал себя очень неловко как мужчина и стал, сопя, выбираться из-под рук. Бабушка тут же отпустила его и принялась краешком своего пестрого платка, который сбился у нее куда-то назад и набок, утирать свои сильно повлажневшие жалостливые глаза. Тимка же слез не стал утирать, а сразу вытащил из-под трусиков пришитый мамой к майке кусок белой материи - носовой платок - и принялся усиленно сморкаться в него, решительно надувая при этом свои мокрые щечки.
- Ты уже совсем большой мальчик, Тима, - продолжая утирать глаза, но пряча их от внимательного тимкиного взгляда, вздохнула бабушка. - Вот скоро в школу пойдешь. Уже почти мужчина. А мама твоя - женщина. Женщины - слабые.
- А ты, - перебил Тимка, - слабая?
- Я - старая, - махнула рукой бабушка. - Обо мне речи нет.
- Ну и что? - набычился Тимка.
- А то, - бабушка, наконец, перестала тереть глаза и прямо пристально посмотрела на Тимку: - Жалеть мать надо! Жа-леть! - по слогам добавила она для пущей уверенности. - Вовка, вон, совсем маленький. С ним, знаешь, сколько здоровья надо? - Тимка молчал. - Во! - продолжала бабушка. - Да дядя этот, Иван, сам видишь, выпивает. Да и кулакам волю, бывает, дает. Не секрет. А матери каково? - Тимка молчал. - Ты, это, Тима, меня понимаешь? - заглянула ему в глаза бабушка, - понимаешь?
Тимка молчал. Да нет же, не молчал он! Он только вслух ничего не говорил, а про себя он еще как разговаривал! Почему, молчал он, этот дядька Ванька у них живет? Вот папа приедет, так он его выгонит! Хоть дядька Ванька и моряк, но все равно папа его победит! Это наш дом, не его! А он, когда в первый день пришел к нам жить, сразу напился пьяный и бил маму и бабушку. И его, Тимку, бросившегося их защищать, стукнул кулаком по голове! А мама потом все плакала и уговаривала бабушку: мол, Ваня - хороший! Он, мол, только сильно контуженный на войне! Вот пусть бы ехал немцев бить, а не нас, раз он такой контуженный! Сами, как только спать ложатся, всегда шепчутся и ворочаются, сколько хотят! Хоть всю ночь! А он, Тимка, чуть шевельнись, сразу все недовольны! Мама тут же кричит: "Сколько ты можешь там вертеться! Сколько ты можешь там вертеться! Спать немедленно! Спать немедленно!" Даже бабушку разбуживает! А когда бабушка однажды заступилась за него, так и ей досталось от мамы: "Он мне жить не дает! - кричала она бабушке из-за занавески, - а ты до такого возраста дожила, а не понимаешь простых вещей!" Не понимает! Да бабушка, может, больше их всех понимает! Потому и добрая! Ночью люди спят, а не живут! Придираются! Сами мне спать мешают каждую ночь!
- Тима, унучек, да ты меня слышишь ли! - бабушка слегка потрясла рукой тимкину голову, - Тима!
- А мама - добрая? - вдруг вслух спросил Тимка. - Бабушка!
- Ты что это, Тима, - закрестилась бабушка, - в своем ли ты уме?
- Мама - добрая? - твердо повторил свой вопрос Тимка, не мигая, глядя на растерявшуюся бабушку.
- Тима, унучек, - бабушка вновь прижала к своей груди тимкину головку и поцеловала несколько раз его пахнущие постелью волосы. - Ну какой же ей быть? Ах, ты, Господи ты, Боже мой! Да разве ж бывают плохие матери? Тяжело ей, маленький, ох, как тяжело! Вот и срывается она. А тебя она любит! Любит! - и бабушка заплакала. Заплакала сначала тихо, по-старушечьи, а потом вдруг громко заголосила, как по покойнику, будто в одночасье лопнула в ней какая-то живая пружина, не сдержавшая всего накопленного и пережитого за долгие и нелегкие ее годы...
В полдень в их доме появился тимкин отец. Он выглядел почти таким, каким снился Тимке ночью, только наград было маловато - всего один орден и три медали, да на руках не блестели трофейные немецкие часы. Отец выглядел очень усталым и сильно хромал на правую ногу. Тимка узнал его сразу, как только отец подошел к плетню и принялся открывать калитку, чтобы войти во двор. Тимка с бабушкой в это время кормили поросенка в другом углу двора и были неожиданно оторваны от своего занятия страшным шумом, поднятым петухом Серьгой, который истошно заорал, устрашающе захлопал мощными рыжебелыми крыльями и стрелой понесся к калитке. Только что спокойно клевавшие вместе с ним рассыпанную бабушкой кукурузу его подружки, тоже все переполошились, устроили невообразимый гвалт и бросились наутек кто куда.
- Папа! Папа приехал! Я знал! Я знал! - обернулся на шум и запрыгал от внезапного счастья Тимка. Он тут же рванулся, было, к калитке навстречу отцу, но бабушка, охнув, быстро поймала его за руку и просяще шепнула на ухо:
-- Про дядю-то Ивана не сказывай ему, унучек! Будто и не живет он у нас вовсе. Хорошо?
-- А Вовка? - тоже шепотом, готовый вот-вот оторваться, спросил Тимка.
-- И про Вовку не сказывай, - быстро ответила бабушка. - Они с дядей Иваном в эти дни будут жить в другом месте. Ну, беги! Встречай отца! - И отпустила его, словно воробышка, на волю, а сама бросилась отбивать тимкиного отца от вконец озверевшего петуха.
За те три дня, что отец находился дома, Тимке так и не удалось насладиться его присутствием. Правда, в первый день сразу после появления отца он немного все-таки посидел у отца на коленях, потрогал, рассмотрел попристальнее, повертел в руках его награды, порасспросил о нашивках на кителе возле ордена ("Ранения, - пояснил отец"), о немцах, об атаках, вообще о войне, похвастался, как они с пацанами подрывали патроны, которые находили в изобилии в лесу, густо окружавшем их небольшой поселок со всех сторон, погоревал о Кольке с Витьком, убитых, как и их отцы. Да тогда же отец дал ему выстрелить в огороде из своего ТТ. Пистолет был такой тяжелый, так что Тимка держал его за рукоятку двумя руками, а когда грохнул выстрел, он так дернулся в руках, что Тимка едва устоял на ногах. Отец громко расхохотался, забрал у Тимки пистолет, вставил в него обойму и вложил пистолет в кобуру. Потом, уже без улыбки, произнес, глядя на Тимку:
- Это очень плохая игрушка, сынок. - И добавил: - вредная.
В остальное время Тимка отца почти не видел. В первый день, как только они с бабушкой пришли за мамой на работу сказать, что приехал отец, мама их сразу послала на другой конец поселка за какими-то вещами. У людей, к которым они с бабушкой пришли, этих вещей не оказалось. Зато хозяйка и бабушка о чем-то долго-долго шептались, а Тимку отослали побегать с ребятишками, которых у хозяйки было трое, и все - постарше Тимки. Вернулись домой Тимка с бабушкой уже поздно вечером, когда отец и мама уже давно спали. Бабушка впотьмах постелила себе и Тимке постели, и он, не ужинавши, молча лег спать. Бабушка села к нему на топчанчик, наклонилась и поцеловала его в уже закрытые глаза. Так и сидела, пока он не уснул. На другой день мама не пошла на работу, а их с бабушкой сразу же после завтрака отправила в соседний поселок за двенадцать километров выменять на рынке мыла. Перед уходом бабушка, ни слова не говоря, полезла в свой старенький обшарпаный комод, достала из него какие-то вещи, сунула их в корзинку и, взявши Тимку за руку, потянула его за собой во двор. Тимка было заикнулся, что хочет пойти с папой "в город", так у них в поселке говорили, когда случалось идти в центр, но, увидев, что отец, отвернувшись, смотрит в окно, промолчал и понуро потащился вслед за бабушкой.
Пришли домой они, как и в первый день, лишь к вечеру. Усталые и без мыла. Ничего выменять не удалось. Мамы и отца дома не было. Бабушка, чем пришлось, быстро накормила Тимку и уложила его в постель. Проснулся Тимка только утром. Дома находился только один отец. Он сидел хмурый у окна перед небольшим потрескавшимся зеркальцем с густо намыленным подбородком. Брился. Потом они с отцом молча позавтракали. Наконец, Тимка не выдержал и спросил участливо:
- Нога до сих пор ноет?
- Нога, - односложно ответил отец. Из репродуктора-тарелки, висевшего над столом, за которым они сидели, с хрипом вырывалась бодрая, но чем-то тревожная музыка. Тимка, никогда до этого не обращавший никакого внимания на все, что выдавала тарелка, вдруг перестал жевать и тихо спросил отца, показывая одними глазами на репродуктор:
- Что это, пап? Что играют?
- "Прощание славянки", - глядя мимо Тимки, ответил отец. И совсем уже отведя глаза в сторону, тихо, как бы про себя, добавил: - Прощание играют, сынок. Прощание.
Потом уже во дворе он дал Тимке еще раз выстрелить из пистолета, теперь уже держа его руки в своих, а после этого прощального, как потом оказалось, салюта, быстро зашел в дом, и почти тут же вышел, пряча что-то , завернутое в газету, под мышкой.
-Я скоро приду, Тима, - ответил он на вопросительный тимкин взгляд и, сильно прихрамывая, как-то боком, направился к калитке...
Больше Тимка никогда не видел своего отца...
Кишинев, 1981 г.
Ах ты, жизнь!
Ранним утром Тимку разбудил ужасный крик, почти вопль, непрошенно ворвавшийся в открытую на ночь форточку. Разбуженное, очевидно, этим криком солнышко, недовольно водило слабым желтокрасным лучиком по стыку двери и потолка напротив Тимкиного топчанчика, прилепленного сбоку от окна к горбатой, выложенной слабой женской рукой, стенке, которую бабушка называла "штопка": два года назад во дворе разорвался снаряд (конечно "немецкий", потому что наши снаряды так подло не поступали). При этом предшественницу "штопки " почти всю высадило взрывной волной, так что бабушка, едва выбравшись из погреба, где она всегда спасалась во время бомбежек или обстрелов, и поминая отнюдь не блеклыми словами "наших сопляков, которые пуляют по хатам с бабами заместо немца", тут же принялась штопать пострадавшую хатенку, грозившую вот-вот окончательно завалиться. Да...Крик был женский, визгливый, аж до хрипа. Ничего нельзя было разобрать. Бабушка и мать одновременно мигом подскочили со своих кроватей. Не остался лежать и Тимка.
- Никак похоронку Довганихе принесли, - на звук определила бабушка и начала быстро одеваться. - А ты, пострел, куда это заторопился? - догнал Тимку ее хрипловатый голос, когда тот полез под топчан за своим сандаликом, который вчера перед сном плохо снимался, из-за чего пришлось так дрыгнуть ногой, что сандалик, ударившись о стенку, залетел куда-то далеко под топчан.
- Я, бабушка, с тобой. Только погоди, вот найду сандаль, - натужно прохрипел Тимка из-под топчана.
- Ой, люди добрые! Ой убили! - вдруг совершенно отчетливо донеслось из открытой форточки. Бабушка уже выбегала, и Тимка рванулся за ней, как был: в штанишках, без майки и в одном сандалике.
- Корову выгони в стадо, Катя! - крикнула бабушка тимкиной матери уже на ходу.
Стояла теплая послевоенная весна. Неделю назад вся тимкина семья вот так же, но еще более ранним утром,была поднята на ноги. Только не голосившей, как сегодня, до мурашек по коже женщиной, а беспорядочной оружейной пальбой и сияньем разноцветных ракет в пробуждающемся беловаторозовом небе. Все повыскакивали во двор в чём успели. Стреляли и пускали ракеты недалеко от них, у пожарной части. В соседнем дворе, ухватившись за плетень и забросив подальше костыли, на своей единственной ноге уже прыгал и кричал "ура!" дядя Федя Пустоваров, а рядом, глядя на него, как на несмышленыша, жалеючи его и себя, плакала тетя Варя, жена дяди Федора.
- Победа, Лукьяновна, растак их мать! Победа! - воздевал к небу свои худые жилистые руки дядя Федя, завидев Тимку с матерью и с бабушкой. И затем снова и снова орал, закашливаясь, такое родное для всех слово.
Бабушка угадала: голосили у хаты Павлика Довганя. Несмотря на такую рань, народу набилось полон двор. На крыльце в ночной белой рубахе, словно святые мощи, молча стояла мать Павлика, белая, как простыня, босиком, прижимая к себе ревущую четырехлетнюю Нюрку. Сам Павлик находился чуть поотдаль. Видно было, что его колотила сильная дрожь. В руках он сжимал "погонялку" - толстый железный прут, изогнутый на конце буквой "П". Такими прутами детвора тимкиного поселка гоняла по улицам железные обручи из-под бочек. Но стенания исходили не от матери Павлика, а от толстой тетки Жилихи, которую удерживали под руки две ее крепкие дочки. Испуская истошные вопли, тетка Жилиха подгибала колени, пытаясь повалиться на землю, но дочки, словно две бетонные опоры, не позволяли ей этого и с равнодушным видом вновь ставили "маманю" на ноги.
- Воровка! - истошно вопила Жилиха, захлебываясь от слез и злобы, - воровка! Да чтоб дети твои всю жизнь видали столько, сколько ты, сучка безмужняя, оставила моим деткам! Да чтоб ты навек подавилась той грядкой лука, которую ты у меня украла-а-а! Да чтоб она тебе на том свете все время покоя не давала-а-а! Да чтоб мужик твой к тебе никогда не вернулся, будь ты трижды проклята-а-а! Ой, убила-а-а! Ой, оставила малых деток моих помирать голодной смертью-ю-ю! Ой, спасите, люди добрые-е-е!
На крики Жилихи все сбегались и сбегались перепуганные соседи, толком не понимая, что же произошло. А мать Павлика словно окаменела: неподвижно стояла на своем крыльце и смотрела молча куда-то поверх прибывающей и прибывающей толпы. На худой лошаденке прискакал милиционер, совсем молоденький парень. Привязав лошадь к плетню, он неуверенно расправил под ремнем неопределенного цвета мятую гимнастерку и осторожно вошел во двор. Толпа охотно расступилась, и он оказался прямо перед зависавшей на крепких руках своих дюжих дочек Жилихой. Увидав милиционера, Жилиха еще пуще заголосила.
-- Отпустите-ка мамашу! - обратился милиционер к дочкам.
Те, наконец, облегченно вздохнули и сразу разошлись в разные стороны. Жилиха, оказавшись без надежных опор, перестала заваливаться на землю и твердо встала на свои коротенькие крепкие ножки. Тут же замолчала и выжидающе смотрела на милиционера.
- В чем дело, гражданка! Объясните! - потребовал милиционер. - Только спокойно и без истерики!
- Вон, - кивком головы показала Жилиха на мать Павлика, размазывая слезы грязной ладонью по красному зареванному лицу. - Машка со своей оравой! Жрать им нечего, так они всю грядку лука у меня повыдергивали! Только повсходил! Только повсходил! И что же я теперь делать-то буду! - снова заголосила она, в отчаянии обхватив голову руками.
- Гражданка! Прекратите! - прикрикнул на нее милиционер. - Откудова это вы знаете, что она, - он указал на стоящую, как статуя, мать Павлика, - что она попортила ваш огород?
- Да! Почем ты знаешь? Отвечай! - тут же раздался чей-то громкий нетерпеливый голос. - Раскудахталася тута!
Толпа во дворе, до этого молча и угрюмо взиравшая на все происходящее, вдруг сразу загудела и задвигалась.
-Тихо, граждане, тихо! - повысил голос милиционер. - Прошу всех разойтися! Мешаете дознанию! Расходитеся!
Тут он расставил руки в стороны и пошел на толпу, пытаясь таким способом ее вытеснить со двора павликиного дома. Но никто даже бровью не повел: все продолжали недвижно стоять, зато загалдели еще пуще. Милиционер отошел назад к Жилихе, снял свою синюю фуражку, отер рукавом гимнастерки пот со лба и, снова надев фуражку, решительно поднял вверх руку:
- Граждане! Пока не уйдете со двора, я, граждане, дознание не начну! Прошу всех освободить двор!
Пока милиционер и толпа выясняли отношения, а Жилиха, глядя на милиционера, прикидывала, как же такой хлипкий пацанчик вернет ей грядку первосортного лука, который они с мужем именно сегодня собирались свезти на базар в город, никто и не заметил, как мать Павлика ушла в дом. Все опомнились только в тот момент, когда душераздирающий детский крик током ударил по всему живому. Воробьи, стайкой сидевшие на росшей в глубине двора старой-престарой алыче и яростно спорившие о чем-то между собой, от такого крика фонтанчиками брызнули в разные стороны.
- Мама! Мамочка! - обезумев, орала маленькая Нюрка, - мамочка!
Милиционер, а следом и все, кто топтался во дворе, бросились в хату. В дальней комнате, в петле, едва касаясь пальцами босых ног земляного пола, закатив глаза, хрипела мать Павлика. Веревка была наспех завязана одним концом за крюк, вбитый чуть повыше окна. Милиционер мгновенно, по-собачьи, прямо с порога прыгнул к окну в ноги матери и поднял ее на себе, сорвав при этом рукой петлю с ее шеи... Впопыхах мать положили здесь же на земляном полу. Милиционер уже не обращал внимания на людей, доотказа набившихся в хату, а стоя на коленях, пытался привести мать Павлика в чувство.
- Зря ты, парень, старался! - наконец с трудом прошептала мать. - Не жить мне больше после такого позора!
- Детей бы пожалела! - перебил ее милиционер, - что они без тебя! Перемрут! Мужик-то где? На фронте?
- Не жить мне больше! Ох не жить! - заплакала мать, и слезы сразу наполнили казавшиеся до этого бездонными огромные глазные впадины.
- Ну, будет, будет! - мягко тронул ее за плечо милиционер. - Так уж и не жить! Шут с ним, с этим луком-то! Наживешь - отдашь! Бывает! Война! - заключил он.
- Да не брала я энтот лук, будь он трижды проклят! - мать попыталась подняться, но милиционер ее придержал:
- Лежи, лежи! Отойди маленько. Не брала и хорошо. Разберемся.
- Не брала она, слышь! - вмешалась одна из находившихся тут же женщин. - Не могла она. Всю оккупацию бедовала с двумя ребятишками, но чужого - ни-ни. А находились, которые брали. Ой брали! - В комнате все сразу заговорили, завспоминали совсем-совсем недавнее. Тронули еще не зажившее, не затянувшееся, больное. И оттого эта толпа разнородных, чужих, случайных людей как-то сразу внутренне собралась, сплотилась одной общей бедой, одной общей ответственностью за все прошедшее, настоящее и будущее...
Раздался резкий стук в окно. Он был до того неожиданным и громким, что все галдевшие вдруг в момент смолкли на полуслове и повернулись на звук. За окном подавал какие-то знаки муж Жилихи. Его сначала толком никто не узнал: лицо было искажено то ли болью, то ли страхом, то ли стыдом, то ли всем одновременно. Было видно, что все случившееся в это утро, где-то глубоко перемешалось внутри этого человека, забродило и в одночасье проступило на его простом и добром лице. И каждая из простых человеческих слабостей по-своему запеклась только ей присущим узором. Милиционер быстро вскочил на ноги, но тут же, взяв себя в руки, спокойным шагом направился к выходу. Люди в комнате и у порога почтительно расступились, образовав неширокий коридор. Едва милиционер вступил в него, навстречу ему выскочил муж Жилихи.
- Я это! - закричал он, задыхаясь, - я! Я свез лук на базар! Не виновата она! - он бросился мимо милиционера к продолжавшей лежать на полу матери Павлика, опустился перед ней на колени и порывисто припал к ее груди:
- Прости нас, Мария! - послышалось сквозь приглушенные всхлипы. - Прости ты нам нашу глупость, прости Бога ради!
...Мать Павлика молча лежала, уставив, как в могилу, невидящий взгляд в потолок своей хаты. Из ее глаз, словно из двух родничков толчками выбивались чистые прозрачные слезинки. Они удивленно задерживались на длинных пушистых ресницах, а затем неохотно терялись в рассыпанных по всему зеленому земляному полу густых темных волосах. Рука ее нежно гладила повинную голову мужа Жилихи...
Ах ты, жизнь! Судьба людская!
И любовь, и боль, и плач!
Колеи не выбирая,
То бредешь, то мчишься вскачь!
Кишинев, 1982 г.
Кончалось лето
Тимка проснулся рано. Из-за двери, где спали родители, доносился храп матери. Воздух как будто медленно-медленно засасывался в узкую воронку, а потом его тут же с силой выбрасывали назад неравными порциями через неплотно прикрытое вибрирующее отверстие. Тимку всегда раздражал этот храп, но сейчас он был просто невыносим. Захотелось прямо тут же сбежать из дома. Тимка посмотрел в окно: почти темно. Лето кончалось и светать стало значительно позднее. Но птицы из рощицы, в которую выходила тимкина комната, давно пробудились, и их звонкие голоса весело врывались в открытую форточку, перемешиваясь с опротивевшим напрочь храпом. Тимка завидовал птицам: тем всегда весело. Интересно, есть ли у их малышей бабушки? Тимка вздохнул и покосился на топчан, на котором спала его бабушка. Он темнел у стены бесформенной кучей. Чтобы как-то избавиться от терзавшего его храпа, Тимка снова стал думать о птицах. Но тут бабушкин топчан сиротливо заскрипел, куча у стены зашевелилась и Тимке показалось, что не только он один бодрствует в комнате. Более того, он был в этом почти уверен, что сквозь скрип услыхал всхлипывания.
- Бабуль! - шепотом позвал Тимка, - бабуль, ты что?
Жуткий храп бился в тимкину дверь и мешал слушать.
- Бабуль? - напряг слух Тимка, - я здесь! Ты что, бабуль? Тебе плохо?
Куча у стены не отзывалась. Тимка, затаив дыхание, стал напряженно прислушиваться. Куча молчала. Но Тимку провести было невозможно. Он встал и решительно прошлепал босыми ножками к бабушкиному топчану.
- Подвинься, бабуль, - тронул он бабушку за плечо, - я хочу к тебе. Чтобы тебе не было страшно, - для полной убедительности добавил он.
Бабушка молча подвинулась, и Тимка не спеша основательно устроился у нее под боком.
- Вот так! - обнимая бабушку и тесно прижимаясь к ее теплому телу, заключил Тимка.
- Ах ты мой защитник! - вдруг горячо зашептала бабушка и прижала тимкину головку к своим губам. - Спи, миленький, еще рано.
Да, бабушка действительно плакала. Тимка почувствовал, что подушка под ним сильно влажная и чем-то теплым замочило ему макушку.
-- Не плачь, ба, - привстал на локте Тимка, уже вот-вот готовый сам разреветься. - Мама говорит, что тебе там лучше будет, - неуверенно продолжил он шепотом. - А мы к тебе ездить станем. Опять же - врачи там. И уход, - повторил он многократно слышанные дома слова. - А я вот выросту и заберу тебя к себе, не плачь.
Он по-взрослому провел ручонкой по мягким бабушкиным волосам и поцеловал ее в мокрую переносицу.
- Все, все, Тима, не буду. Спи, - чуть запинаясь, в ответ прошептала бабушка.
... Тимка проснулся оттого, что кто-то его сильно тормошил. Он открыл глаза и сразу зажмурился: в окно уже било яркое солнце. Чуть приподняв веки, он встретился с глазами матери и было открыл рот, чтобы спросить "А бабушка...", как мать строго приказала:
- Быстро вставай! И так опоздали! Поедем нашу бабушку пристраивать! Такси уже пришло! Мигом! - крикнула она, убегая. - Назад приедем - позавтракаем! Давай!
Тимка тут же сорвался с постели и, на ходу застегивая помоч от штанишек и засовывая ноги в сандалики, вылетел на крыльцо. Бабушка сидела уже в машине и смотрела куда-то в сторону. Шофер, чубастый молодой парень в гимнастёрке, в чёрных морских клёшах, наспех засунутых в кирзовые сапоги, бил ногой по переднему скату, проверяя его на прочность. Отца не было видно. Мать торопливо запихивала в багажник узелок с бабушкиными вещами. Из-за соседского забора на все происходящее хмуро глядели тетя Галя и дядя Ермолай с маленькой Ленкой на руках. Тимка, забыв сказать "здрасьте", сразу побежал к машине.
- У-уу, ироды! Родную мать... - услышал он, забираясь к бабушке на колени, и почувствовал, как бабушка вздрогнула.
- Ну... поехали! - мать, потная, тут же рядом плюхнулась на сиденье. - Поехали! Давай!
Шофер нехотя кончил бить ногой по скату, зачем-то посмотрел на небо, словно испрашивал у него разрешение на отправление, и медленно полез за баранку.
- А дядя Ваня...то есть... где папа? Папа где? - заволновался Тимка, - подождите!
- Ехай, ехай! - тронула шофера за плечо мать. - Папа твой занят, - не поворачиваясь лицом к Тимке, объяснила она ему деревянным голосом. - Он не может. Он умеет только руки распускать. Да и то, когда пьяный. А когда он не пьяный? - она, заводясь, начала, было, переходить на крик...
Тут шофер с неподдельной яростью дернул за рычаг, и машина резко рванулась со двора. Бабушка охнула и прошептала: "Ну, все!". Тимка почувствовал, как ее теплые руки еще крепче сжали его. Мать сразу замолчала...
Когда через некоторое время вдали показались неровно рассыпанные по яркозеленому полю белые домики, пансионат для престарелых, Тимка твердо решил показать свой мужской характер и ни в коем случае не зареветь. Мать сразу заерзала на сиденье и, будто призывая всех присутствующих в свидетели, начала поочередно всем заглядывать в глаза и фальшиво восклицать: - Красота-то какая! Вы только подумайте, как у нас заботятся о старости! Ну чисто рай небесный! А речка-то, речка! Поглядите-ка! А па...
- Да перестань ты паясничать! - неожиданно перебил ее до этого всю дорогу молчавший шофер. "Речка-то! Речка!" - фальцетом пере- дразнил он её. - Что-то не больно-то сама сюда рвешься, кикимора!
И рывком нажал на газ. Машина взвыла, а мать, словно ничего не произошло, продолжила восхищаться открывшимся взору пансионатом, показывая всем своим поведением, что она очень завидует тому, что доля жить здесь до конца дней своих несправедливо досталась не ей, горемычной, а ее более удачливой матери.
Наконец-то подъехали к выкрашенным в зеленое воротам. Шофер затормозил, вылез из машины и, буркнув "разбирайтесь тут сами!", резко махнул рукой и, не оглядываясь, сразу сгорбившийся, медленно поплелся вдоль длинного-предлинного забора. Бабушка как-то засуетилась, заспешила и никак не могла снять Тимку со своих дрожащих коленей. Да и Тимка, как на грех, вдруг весь одеревенел. Пальцы вцепились в спинку сиденья и не хотели разжиматься. Выручила, как всегда всех мать: она уже успела сбегать к воротам и вызвать двух пожилых женщин в белом. Они втроем подошли к машине.
- Мама! - громко сказала мать, - вот видите, нас уже встречают! Как здесь культурно, мама! А ты, пострел, чего прилип! - и Тимка заработал подзатыльник. - Ну-ка быстро вылазь! Мы и так опаздываем!
Куда и за чем "опаздываем", она не уточнила, но зато Тимка был тут же сильным рывком выдран из машины и поставлен на ноги на землю. Женщины в белом помогли выбраться бабушке.
- Ну вот, - привычно сказала одна из них, - значит, это, прощавайтесь!
Тимка твердо подошел к бабушке, молча ткнулся в её подол, затем отошел на шаг и пробормотал: - До свиданья, ба... - А мать вдруг с возгласом "Ой! А узел-то совсем забыли!" кинулась к машине. Узел у нее тут же забрала другая женщина в белом, и обе служительницы с бабушкой посередине медленно прошли ворота и направились по неширокой аллее к стоявшему несколько в стороне от остальных домику. Тимка насупился и стал сбивать носком сандалика пыль с тротуара. Мать крепко держала его за руку и искала глазами шофера. Где-то заиграли "Помнишь, мама моя" ...
- Бабулечка! - вдруг рванулся вперед Тимка, - бабулечка, не уходи!
Слезы хлынули из него, как дождик из темной тучки. Мать сразу крепче сжала тимкину ручонку и, дернув её на себя, зло прошипела:
- Я те поору! Цыц, паршивец! - и принялась побыстрее запихивать его в машину.
- Я не хочу! Не хочу! А-а-а! Пусти! Пусти, ты! Бабулечка-а-а!...
Тимка рвался, хрипя, из рук матери и ему казалось, что тысячи и тысячи колоколов вдруг взорвались гулким медным звоном, яркое солнышко вздрогнуло, побледнело и быстро-быстро покатилось за далёкий горизонт...
"Не хочу! Не хочу!" эхом металось невыносимое тимкино горе, и три фигурки на аллее заторопились, путая шаги...
1981 г. Кишинев
Новый Афон - Пицунда
Синеглазое веселое солнце привычно смотрело со своей высоты на старый, когда-то давно шагнувший в самое море на своих высоких крепких сваях дощатый причал, о который нетерпеливо бился небольшой белоснежный прогулочный катер, издали похожий на хорошенькую чайку, качающуюся на мягких изумрудных волнах. Последние опоздавшие торопливо и виновато быстро пробегали мимо укоризненно глядевших на них двух усатых ответственных за посадку, кое-как суя им в руки мятые туристические карточки. На борту опоздавших встречало такое же темнокожее и усатое лицо, как и первые два на причале.
Все скамьи на верхней палубе были заняты туристами, однако для каждого вновь прибывшего все равно немедленно откуда-то обнаруживалось "одно местечко". Детвора, словно мухи, лепилась у бортов. Причальный динамик в очередной раз громко и гортанно прокричал, что "Теплоход "Апсны" отправляется в путешествие по маршруту "Новый Афон - Пицунда", приятного всем путешествия!", тут же быстренько начали убирать трап и закрывать бортовую дверцу. Люди на палубе, до этого гомонившие, словно птицы на диком утесе, как-то вдруг попритихли, стали поплотнее усаживаться друг подле друга на жестких деревянных скамьях и почти перестали шевелиться.
Одни ожидали выхода в море с плохо скрываемой тревогой, потому что им впервые в их жизни придется плыть по морю на судне и что и как оно там будет - одному Богу известно.
Другие наоборот: с особым нетерпением предвкушали близкую встречу с могучим дыханием открытого моря, с безбрежным бирюзовым простором, соприкасавшимся далеко-далеко у самого горизонта с яркой бездонной синью утреннего июльского неба.
Третьи совсем притихли в своих обычных людских заботах, припоминая, все ли, что необходимо, взято с собой в дорогу, не забыто ли что, и просто размышляя о прочих житейских мелочах, без которых любой из ний практически не мог существовать.
"Теплоход", как солидно звала команда свой катерок, между тем громко и натужно заурчал, внутри него что-то зашевелилось, задрожало, забилось, и он медленно начал отходить от причала. Он будто проснулся от долгой спячки, ожил, повеселел, сразу заплясал на легкой прибрежной зыби, отчего и его пассажиры тут же вдруг зашевелились, задвигались, заговорили, словно внезапно пробудились от сковывавшей их какое-то время неизвестности. Те, кто постарше, особенно женщины, сразу принялись натягивать на себя теплые, припасенные в дорогу, кофты, набрасывать на плечи себе и близким все, что было из одежды под рукой: защищались от свежего соленого ветра, уже загулявшего по маленькой палубе. Ребятня дружно загалдела, ощущая приливы особой радости от пенившейся за бортом прозрачной воды, громкоговорители, укрепленные на носовой и кормовой сторонах небольшой рубки, неуклюже торчавшей посреди палубы серым спичечным коробком, заклокотали ритмичной музыкой, прибавляя кому веселья, кому - грусти, а кому - обычного шума в ушах. Хотя солнышко еще не жгло, как это часто бывает в тех краях к этому часу, и до жажды было еще далековато, все же некоторые пассажиры начали спускаться по крутой винтовой лестнице под самой рубкой в спрятанный на дне "теплохода" малюсенький бар. Двухчасовое морское путешествие в Пицунду началось.
Мне достался маленький уголок скамьи перед самой рубкой, почти у входа в нее. Дверь рубки едва держалась на петлях: члены команды катерка сновали туда-сюда, безбожно хлопая ни в чем не повинной дверью. На них не было обычной морской формы и поэтому невозможно было определить, кто есть кто. Обычно каждый из них, будь то входящий в рубку или выходящий из нее, пролетал перед палубной публикой этаким гоголем, в дижениях его скользила ленивая молодцеватость, скорее - развязанность, полное и показное пренебрежение "к этим салагам", которых-то и в мертвый штиль непременно укачивает. Эти люди ходили небрежно, вразвалочку, смотрели поверх наших голов, в никуда, а закрывая за собой дверь старенькой рубки, в последний момент так нещадно дергали ее разнесчастную, что сразу раздавалось нечто вроде небольшого взрыва, дополнительно обращавшего внимание окружающих на то, что такой-то вошел в рубку или, что еще более значительно, вышел из нее.
Рядом со мной вплотную разместилась средних лет полная женщина, то и дело хватавшаяся за голову после очередного дверного выстрела. Каждый мускул на ее страдальческом лице выражал непреодолимую муку, когда новый герой заполнял проем двери своими крепкими плечами. Однако ее дочь-подростка, примостившуюся тут же рядом на скамье, все это приводило в неописуемый восторг, в заливистый звонкий беззаботный хохот. Девчушка, сидевшая до отплытия очень смирно, даже испуганно, все время жавшаяся к матери, как только катерок выкатился в открытое море, словно по волшебству тут же заерзала, завертела в разные стороны небольшой, на тонкой, не успевшей еще загореть белой шейке головкой, приникая время от времени красиво очерченными пухлыми губками к страдальческому уху матери, стремясь поделиться с той переполнявшими ее чувствами. Когда же дверь выстреливала и мать крупно вздрагивала, хватаясь с жуткой гримасой на лице за голову, это приводило ее дитя в такой неописуемый восторг, что оно начинало безумно хохотать, бессильно падая при этом на мать, пронзенное легкой детской радостью, неспособной услышать и понять плач взрослой души. А может мать нашла удачную игру?
Около получаса прошло с момента отплытия. Катер шел ровным ходом в открытом море параллельно береговой линии. Слева, насколько хватало взгляда, в лучах яркожелтого солнца синело и синело море. А справа чуть ли не от самого берега в небо упиралась крутая горная гряда, до половины одетая в роскошную южную зелень с белыми нарядными шапками нерастаявшего снега на голых каменистых вершинах. Ветер крепчал. Вскоре легенький катерок начало прилично подбрасывать, словно лихой тарантас на деревенских ухабах. При этом катерок напрягался, напружинивался, сдержанно гудя, а тугая разгулявшаяся волна с размаху била в его недавно старательно выкрашенный невысокий бортик. Но катерок твердо следовал своим курсом, упрямо не обращая ровно никакого внимания на начинающее закипать от злости море. Люди с кормы, с носа потянулись поближе к середине, к рубке, где меньше всего укачивало. Лица их, постепенно остывая от недавней веселой туристской суеты, становились серьезными, даже напряженными. Громкие разговоры взрослых и гам ребятишек поутихли. Каждый ушел в себя, пытаясь отогнать прочь начавшую подступать к самому горлу тошноту. А у меня в голове завертелись и завертелись невесть откуда взявшиеся строки:
Мы все действительно салаги:
Качнуло море только чуть
И нашей выспренности шпаги
Пронзили собственную грудь.
Волна летит, летит, несется,
Смеясь, рисует свой узор.
Ох, не напиться б из колодца,
С тоскливым именем "Позор"!
Я вспомнил, как сосед по гостиничному номеру в ответ на моё предложение прокатиться морем в Пицунду, только ехидно заметил: "Вы бы, Тимофей Павлович, поостереглись этих сомнительных мероприятий местного турбюро". "Почему так?" - искренне удивился я. "А потому, - глубокомысленно ответствовал сосед, - сами увидите, если поедете." Похоже, стреляный воробей этот мой гостиничный сосед...
... Катерок швыряло из стороны в сторону. Казалось, вот-вот наступит момент, когда срели сгрудившихся в беспорядке у рубки испуганных людей кто-нибудь первым не выдержит, расслабится, сорвется, не сладит с еле сдерживаемой и рвущейся наружу, на люди, напоказ тошнотой и тогда... И стоявшие, и сидевшие - все с тревогой посматривали то друг на друга, то на усыпанное крупными белыми барашками потемневшее, совсем недавно такое чистое, такое ласковое и приветливое море. Солнышко, как ни в чем не бывало, светило все также ярко и весело, горы невозмутиво-величаво уплывали назад, а море... Оно стало иным, совсем иным: неприветливым, злым и, казалось, вот-вот его обуяет страшая ярость. Белые барашки начали превращаться из красивых, живописных, приятных глазу туриста бурунчиков, в с шумом перехлёстывающие через мелкие бортики катерка ушаты неприятной в этот момент воды, обдававшей холодным душем сбившихся в кучу у рубки уже явно напуганных всем происходящим людей. Видно было, что настроение у всех сильно испортилось, и глухое раздражение вперемежку со страхом сковало незадолго до этого беззаботную и настроенную на праздник разношёрстную массу туристов. Казалось, не хватало только того, на кого мог бы разрядиться гневом этот огромный ком людской несправедливости., чтобы снова всем стало легко, приятно и празднично.
Тут среди почти обреченно молчавших, сгрудившихся у передней части рубки людей случилось легкое движение. Показалось, что к ним кто-то пробирался с другой стороны рубки.
- А ну-ка, женщины, разрешите-ка, разрешите! - послышался оттуда жесткий и властный женский голос. - Ну-ка позвольте-ка мне пройти! Посторонитесь-ка, мамаша! - это уже к женщине, стоящей у нашей скамьи в первом ряду. - Сыночка-то отпусти, отпусти, милая! Чего это ты его на руки-то подхватила? Гляди, он уже почти что с тебя ростом! Вот-вот поллитру запросит! - Кто-то из стоявших рядом раздражённо и недобро заулыбался. Прямо передо мной из толпы выбиралась невысокая полноватая конопатая пожилая женщина в простеньком стареньком цветастом, похожим на домашний, халатике. На ее сухих крепких ногах - растоптанные, видавшие виды неопределенного цвета босоножки, из которых вылезали неровные сухие пальцы, никогда не ведавшие, вне всякого сомнения, что такое педикюр. Голову ее покрывала старенькая соломенная шляпка, удерживаемая на голове тоненькими желтенькими тесемочками, завязанными узелком на небольшом круглом подбородке. Из-под шляпки курчавились густые, но совсем-совсем седые волосы. Посреди круглого простого и совсем неприметного лица с широко расставленными небольшими и давно выцветшими круглыми глазами прилепился еще более неприметный, чуть вдавленный в переносице и заканчивающийся небольшой круглой картофелинкой нос. Большой рот окаймляли тонкие, еле подкрашенные губы. Эта женщина еще что-то кому-то на ходу крикнула, и я...я сразу узнал ее! В одно мгновение какая-то все отравляющая ярость прямо-таки забулькала во мне! Да это же опять местная культурница нас настигла! Боже! Даже в шторм в открытом море от нее - никакого покоя! Я повернулся к соседке:
- Ну, сейчас мы все тут запоем-запляшем! Не доконала она нас еще там, на земле!
- Ну что вы! - через силу улыбнулась соседка, стараясь быть вежливой и приветливой, но у неё это плохо получилось, - что вы! Хотя сейчас явно не до шуток, но всё же...- Какие уж тут шутки! - гнул свое я, - сейчас начнется! - и показал глазами на пришелицу. Соседка посмотрела по направлению моего взгляда и по её лицу я понял, что ей трудно было скрыть, как и мне, свою неприязнь к прорывавшейся к нам напролом культработнице.
А та уже твердо стояла на свободном простанстве палубы, держа в одной руке рулоном свернутую общую тетрадь, а другой поправляя съехавшее на нос сомбреро.
- Сейчас мы станем петь! - безапеляционно заявила эта дама и, раскрыв наугад свою тетрадку, пояснила: - Здесь у меня записаны слова песен.
Меня начало душить зло: так я и думал, что этим кончится! Ну и путешествие! Постоянно грохающая дверь рубки, эта заносчивая и всех презирающая команда, начинающий звереть шторм и вот он заключительный подарок отдыхающим в виде этой бесцеремонной бабенки! Вспомнилось "Спокойно, Ипполит, спокойно..." Было видно, что и остальные "отдыхающие" без явного энтузиазма восприняли появление активистки в столь напряжённый для них момент. "Хорошо бы не побили её сгоряча, - подумал я. - Совсем тётка ополоумела! "
Тем временем действо у рубки разворачивалось своим положенным ему чередом. Затейница громко, перекрывая шум бьющихся о бортик катерка раздраженных волн и натужное гудение этого крепкого и упрямого ослика, продолжала приказывать:
-- А ну-ка, кто поближе, смотрите в мою тетрадь, остальные хором подхватывают! И-и-и... начали!
Пусть плывут неуклюже
Пешеходы по лужам,
А вода - по асфальту - рекой!
Она пропела это громким и на удивление чистым голосом.
- Внимание! Мужчины тоже поют!
- Сейчас,- чуть не выкрикнул я, - как же!
Она глядела прямо на меня, словно угадала ход моих мыслей:
- Мужчины! Не отставайте!
Но все молча и открыто недружелюбно, вроде меня, поглядывали на этот старый круглый облезлый феномен посреди шторма. Но сие обстоятельство ее совершенно не смущало: как ни в чем не бывало, она продолжала, размахивая себе в такт правой рукой, а левую, с тетрадкой, держала вытянутой перед собой так, чтобы стоящие рядом видели слова песни, которые были ею выписаны крупным разборчивым четким почерком на разлинованной белой бумаге.
...И не ясно прохожим
В этот день непогожий,
Почему я веселый такой!
- Давайте, женщины, давайте! Ребята! Мужчины! Подпоем! Дружно!
А я играю
На гармошке
У прохожих
На виду...
- Мужчины! - она опять в упор смотрела на меня. Дался же я ей! - Не слышу мужчин! Молодой человек! - она принялась яростно теребить стоявшего рядом с ней парня: - Ну что же вы! Подхватывайте! - Но парень только неприязненно смотрел на ее выкрутасы и все теснее прижимал к себе свою спутницу, которой было очень плохо. А может и наоборот: даже очень хорошо? Определить это точно было невозможно, потому что девушка обхватила парня обеими руками за шею и уткнув ему в плечо свою головку, почти висела на нем.
Море свирепело. Волны с теском бились о борт и соленые брызги начали доставать уже сгрудившихся у самой рубки.
-- Детки! Все детки!
К сожаленью,
День рожденья
Только раз в году! -
одиноко кричала запевала под шум ревущих волн среди угрюмого, злого, беспокойного и какого-то больного молчания стоявших рядом с ней людей.
И... И все же она добилась своего! То ли потому, что было неловко смотреть, как пожилая женщина, которой и самой-то было, быть может, не лучше, чем остальным, никак не воспринимавшим ее, старается провести запланированное мероприятие, то ли потому, что становилось неловко чувствовать себя мешающим ей зарабатывать на кусок хлеба, то ли просто из обычного человеческого сострадания (чего у русского человека всегда в избытке) к неудаче другого себе подобного, то ли еще по каким иным причинам, не знаю и гадать не стану, но кое-кто из женщин, из детей и... увы, я сам начали неуверенно ей подтягивать, подпевать, поддерживать ее. На этот факт она даже бровью не повела! Как будто все идет именно так, как и должно было идти с самого начала!
Хоть и злость брала меня из-за этой тетки, но уже спустя какой-то десяток минут я вместе со всеми окружающими горланил "А я играю на гармошке у прохожих на виду"! Что она сделала с нами, эта женщина! Все тотчас забыли, что им невыносимо плохо! Те, что поголосистее, - а таких вдруг обнаружилось почти девять десятых - старались перекричать друг друга, перепеть, да и что там греха таить, просто переплюнуть! И стар, и мал!
...Тем временем наш катер выскочил, наконец, на серый песчаный пляж Пицунды под строгое молчание огромных реликтовых сосен и вполне недоуменные взгляды загорающих: крутая черноморская волна давно отстала на полпути где-то между Гудаутой и Пицундой, а легкое белоснежное суденышко, упершись носовой частью во влажный зернистый песок, продолжало сотрясаться от коллективной боли за то, что "Для кого-то - просто летная погода, а ведь это - проводы любви". Спускаясь на берег по трапу, перекинутому прямо с носа суденышка на пляж, я услышал, как недавняя моя соседка по скамейке на палубе, шедшая позади меня, спросила свою дочь:
- Ну, как, солнышко, не тошнит больше?
- Что ты, мама! У меня все горло дерет от песен! - удивленно ответила девчушка и тут же в ответ потребовала: - Мама, купи мне мороженого!
- Да это не тебе надо мороженое покупать, а вон бабушке из Ленинграда, которая всех нас по-настоящему спасла! - парировала мать. - Пойдем лучше да купим ей цветы.
- К-к-ак это из Ленинграда? - повернулся я к ним. - Она, что, не местная разве? Не из турбюро? Не культработник?
- Да из какого там турбюро! - досадливо махнула рукой на меня женщина. - Из какого турбюро! Какой там культработник! Опомнитесь! Из Ленинграда она! Отдыхающая! Как мы с вами! Бывшая фронтовичка! А живет... чуть ли не в доме для престарелых... Одна, как судьба...
- Вот оно что! - я так и застрял посреди трапа, огорошенный этой новостью. - Да она же, как... как на фронте... Впереди всех... Одна... За всех...Для всех...А я... А мы....
- Эй, проходи! Чего стал! - резко толкнул меня в спину чей-то раздраженный нетерпеливый голос, и я поплелся вниз, не разбирая ступенек...
1982-1983 г.г. Кишинев
Срочный вызов
1.
Рабочий день близился к концу. Оставалось чуть больше часа. Южный зимний день тоже завершался. Пространство по ту сторону окна кабинета делилось надвое: слева где-то уже рядом находились сумерки, но словно боясь войти в холодный мелкий дождь, непрерывно сыпавший с самого раннего утра, они выжидали со своим появлением. Справа надвигалась темная рваная туча, поглощая собою и заунывный дождь, и редкие светлые полоски завершающегося дня, кое-как вырывающиеся из густой чернильной сырости. Местами достигая окна, туча растекалась по стеклу грязной вязкой массой.
- Вот и все, - подумал Тимофей Павлович, - совсем добралась.
Какая-то еще неосознанная тревога помимо его воли проникла снаружи в его кабинет и начала медленно сжимать и, как ему показалось, даже искривлять окружающее пространство. Вдруг зазвонил внутренний. Тимофей Павлович невольно от неожиданности вздрогнул, но трубку снял медленно и глухо произнес:
- Вологодцев.
- Слушай, Вологодцев, сейчас только звонил Иван Андреевич из...- трубка что-то неразборчиво прохрипела голосом главного инженера, - срочно хочет тебя видеть.
- Кто-кто? - откашлявшись, быстро переспросил Тимофей Павлович. - Какой Иван Андреевич? Из...- Он посмотрел на потолок своего небольшого кабинетика.
- Да, да! Он самый! - перебил главный, словно телепатически перехватил взгляд своего собеседника. - Собирайся побыстрей!
Немного помолчав, озабоченно добавил:
- Машина у меня куда-то уехала некстати. Накажу я этого Васю. Совсем разболтался парень: уже в рабочее время начал калымить. Вот рас... разгильдяй! - быстро поправился главный.
- Но я... - начал было Тимофей Павлович, - да у нас с ним шапочное знакомство, - наконец твердо выпалил он. - Не понимаю, зачем...
- Да на месте там и разберешься! - закричал в трубку главный. - Разберешься! - для большей убедительности опять прокричал он. - Да давай поскорей! В таких инстанциях ждать не привыкли! Беги мигом в бухгалтерию! Там тебе уже выписали талоны на такси! Ровно через двадцать минут ты должен быть у него! Комната 121! Синчер Иван Андреевич! Все запомнил?
- Запомнил, - в полной растерянности буркнул Тимофей Павлович. Потом медленно положил трубку и нехотя как бы заторопился в бухгалтерию.
- Зачем я ему понадобился? - тревожно недоумевал он, - медленно поднимаясь по лестнице, машинально шагая через одну ступеньку. - Зачем?
Ему было неудобно встречаться с Синчером не только потому, что тот работал "наверху" и получалось, что разговор с Синчером будет происходить через голову его, Тимофея Павловича, непосредственного начальства. А начальству, как известно, такое положение вещей всегда не по душе, если говорить слишком упрощенно. Неудобство было связано и с чисто личными мотивами. Лет десять тому, когда Тимофей Павлович работал зав. отделом в одном министерстве, к нему неожиданно заявился его бывший однокашник по университету Валера Ярмурин с каким-то незнакомым парнем. Тимофей Павлович обрадовался Валере: не встречались много лет. Как водится в таких случаях, разговорились "за жизнь". Спутник Валеры все время скромно молчал, давая возможность, видимо, всласть повспоминать прошлое. Наконец, Валера приступил к разговору, ради которого он, собственно, и разыскал Тимофея Павловича. Оказывается, Валера пришел к нему вести переговоры о переходе на повышение: спутнику Валеры там, "наверху", поручили организовать подразделение, связанное с планированием внедрения вычислительной техники в Республике. Он набирал себе кадры. В качестве одной из кандидатур ему посоветовали Тимофея Павловича. Тимофей Павлович тогда сразу наотрез отказался, даже не поинтересовавшись, на какую работу его приглашают: было неудобно оставлять место, где он работал всего около года и где ему просто нравилась его работа. О власти и о деньгах в те неправдоподобные времена такие, как Тимофей Павлович, просто не думали. Ничего, кроме работы, любимой и полезной обществу работы им и в голову не приходило! На том и разошлись. Спустя несколько лет Тимофей Павлович был назначен руководителем организации другого министерства и ему по долгу службы приходилось бывать "в инстанциях". Каково же было его удивление, когда однажды он узнал в руководителе одной из таких "инстанций" того самого парня, с которым приходил к нему Валера Ярмурин. Это был Синчер. Так уж случилось, что за все время директорствования Тимофея Павловича, ему ни разу не пришлось лично столкнуться с Синчером. Тот был вечно вне кабинета, куда Тимофей Павлович заходил к своему куратору. Хотя Синчер и Тимофей Павлович заочно знали друг друга и не раз разговаривали по телефону. Синчер тогда сам напомнил ему об их давнем знакомстве, не намекая совсем об их неудавшейся в то время деловой встрече, доброжелательно вспоминая некоторые смешные эпизоды их разговора, передал привет от Валеры, с которым Синчер до повышения вместе работал, а теперь вот живет в одном доме. На том тогда разговор и закончился.
И вот этот срочный вызов. Тимофей Павлович, работал вновь в должности зав. отделом и уже начинал забывать "инстанции" с их мягкими дорогими коврами и тревожной тишиной коридоров, с их сверхвежливым обращением, после которого быстро знакомишься с валидолом. Сегодня, почти вот сейчас ему вновь предстояло соприкоснуться с тем, о чем он даже не хотел вспоминать.
Еще два обстоятельства расстроили Тимофея Павловича. На работу он всегда ходил в строгом костюме. Галстук был непременным атрибутом его одежды. Сегодня же, как на грех, он явился на работу, сам не понимая почему, в какой-то легкомысленной куртке, без галстука и в старых брюках. Весь день он чувствовал себя не в своей тарелке, ему было стыдно перед своими сотрудниками, а под вечер на тебе! Вызвали! И куда! Как он теперь в таком виде там появится? От таких мыслей у Тимофея Павловича начало болеть под левой лопаткой. Да к тому же именно сегодня ему приспичило купить в обеденный перерыв в соседнем магазине сладкие сырки. Жена просила. Ну как он попрется туда с этими сырками? "Ну, Тимка, - подумал он о себе, - попал ты, как кур в ощип!"
Получив талоны, Тимофей Павлович одеваясь на ходу, поспешил к выходу. В кармане его полупальто камнем болтались как попало завернутые в жесткую бумагу для распечатки данных сырки, и он втайне надеялся, что в столь короткий срок, отпущенный ему главным инженером, не удастся поймать никакого такси. Но, как всегда, ему не повезло: едва выбежав во двор, он увидел подъезжающую легковушку. Ту самую, которую потерял главный. И совсем расстроился. Но вдруг его осенило: да они же должны ехать мимо его дома к Синчеру!
- Вася! - крикнул Тимофей Павлович, замахав руками навстречу приближавшейся машине. - Вася, стой! Разворачивайся! Кое-куда поедем! Главный приказал! Давай побыстрей, - уже спокойнее сказал он, садясь в машину, - надо заехать еще ко мне домой.
2.
К зданию с колоннами они с Васей подъехали, когда до назначенной встречи оставалась ровно одна минута. А надо было еще добежать до центрального входа по широкой правительственной лестнице, попасть в вестибюль и пройти "через милиционера", что было не таким уж простым делом за такое короткое время. К тому же многие посетители этого огромного белокаменного гиганта уже сплошным потоком хлынули из него, как из чрева сказочного исполина. Надо было еще успеть обязательно оставить в раздевалке свою верхнюю одежду, не забыть после этого тщательно привести в порядок свою прическу, костюм, галстук, обувь. Тимофей Павлович до поступления в университет три года служил в армии и до сих пор не разучился распоряжаться секундами. Не обращая внимания на недоуменные взгляды встречных, он стремглав несся вверх по широкой белокаменной лестнице, ведущей к центральному входу в здание, перепрыгивая сразу через несколько ступенек, отчего его полноватая небольшая фигурка очень походила на скачущий вверх кем-то с силой пущенный мяч. Перед входом в здание Тимофей Павлович остановился, вновь обрел свою солидность и степенно прошел мимо милиционера в полупустой вестибюль. У раздевалки (надо же!) неожиданно столкнулся с руководителем министерства, в котором перед этим работал и который тогда был его непосредственным начальником. Тот шел одеваться. Холодно поздоровались.
- Черт знает что! - раздраженно подумал Тимофей Павлович. - Тут как на Дерибасовской в Одессе: кого только ни встретишь!
Он быстренько привел себя в порядок и начал искать 121-й кабинет. Он оказался почти рядом с раздевалкой.
- Хорошо, что их перевели на первый этаж, - с облегчением подумал Тимофей Павлович. - Не то сейчас бы совсем некстати пришлось бежать бы, как раньше, на четвертый.
Тимофей Павлович облегченно вздохнул и постучал в отделанную светлокоричневым блестящим шпоном легкую дверь. Открыл. В комнате сидело четверо сотрудников. У стола одного из них сидел хмурый посетитель. Никого из присутствующих Тимофей Павлович не знал. Все были новые. Синчера не было.
- Товарищ Вологодцев? - полуутвердительно-полувопросительно произнес сотрудник, перед которым сидел посетитель.
- Да, я. А Иван Андреевич?..
- Он просил вас подождать немного. Срочно вызвал зам. - ответил тот. - Посидите пока вот за его столом.
- Ну что вы! - засмущался Тимофей Павлович, - неудобно как-то! Я посижу, если не возражаете, вот за этим. - Он сел за свободный стол, стоящий рядом со столом Синчера. Пока Тимофей Павлович сидел в ожидании, в комнате никто из сотрудников даже головы не поднял и не взглянул в его сторону. Все продолжали заниматься своими делами.
- Вышколенные! - усмехнулся про себя Тимофей Павлович.
Тимофей Павлович немного нервничал. Во-первых, он никак не мог определить, по какому вопросу он так срочно понадобился Синчеру. Во-вторых, не знал, как себя с ним вести при встрече. За то время, что они не виделись, Синчер закрепился "наверху", а он, Тимофей Павлович, сильно и больно упал вниз. Лучше бы они вовсе не были знакомы!
На удивление все прошло довольно просто: Синчер вошел в комнату, увидал Тимофея Павловича, заулыбался и, подавая руку, сказал:
- Извини, что заставил тебя ждать. Мы, наверно, лет пять не виделись?
- Десять почти, - хотел поправить Тимофей Павлович, но напряженно согласно кивнул головой и подтвердил: - что-то около того.
- Ну, пойдем немного побродим по коридору и поговорим, - Синчер мягко взял Тимофея Павловича за локоть. - Не будем здесь всем мешать.
И направился к двери. Тимофей Павлович последовал за ним. По коридору они медленно и молча прошли шагов десять. Видимо, Синчер думал, с чего начать.
- Ну, как тебе работается на новом месте? - наконец спросил он.
- Ничего, спасибо, - автоматически, внутренне собираясь, ответил Тимофей Павлович и замолчал. Поошли еще шагов десять.
- Ты не догадываешься, почему я тебя пригласил? - снова мягко заговорил Синчер. - Или ты уже в курсе?
- Ни в каком я не в курсе! Говорите же наконец! - не выдержал Тимофей Павлович. - А то не знаю, что и подумать! Какие у меня могут быть дела в вашем ведомстве? Я давно отошел от всего такого!
- Письмо писал?
- Какое еще письмо? - Тимофей Павлович оторопело смотрел на Синчера. - Куда?
- Туда! - Синчер большим пальцем правой руки показал вверх.
- Не писал я никакого письма! - Тимофей Павлович непонимающе уставился на Синчера. - Не писал!
- Ну как же не писал? - Синчер повидимому не ожидал такого ответа и оттого даже немного покраснел. - В Москву об АСУ писал? Не помнишь?
- В Москву об АСУ? А... Вон в чем дело! Писал, конечно. А при чем тут ваше ведомство? Да это и было-то когда! Я уже и забыл про письмо-то!
- Чего ж так?
- А того ж, - в том ему ответил Тимофей Павлович, - что я ответа и не ожидал. Не должны были мне отвечать. Я делился мыслями.
- А все помнишь, о чем писал?
- В деталях уже может и не все, но суть помню.
- Расскажи, пожалуйста, о сути. И вообще, что тебя сподвигло на это?
- Как это сподвигло? Вы что не знаете, какой болезнью мы все болеем? - Тимофея Павловича начало одолевать раздражение. - Вот уже пятнадцать лет работаю в этой сфере и никакого результата!
- Так только это и толкнуло?
- А вам этого недостаточно? Хотя, впрочем, это только поводом послужило. Знаете ведь, как наш брат мыкается с этими АСУ. Заказчики с нами что хотят, то и делают. Не выполняют правительственных постановлений. Многие вообще бы от АСУ отказались, да нельзя. Накажут. Вот они и измываются. Кому же охота свои внутренности выворачивать наружу! Тут даже маленького кладовщика не заставишь подключиться к АСУ: все его "дела" сразу выплывут наружу. А руководители вроде бы как и "за", но по сути заодно с кладовщиком. Мол, не трогай его, у него и так тяжелая работа, а ты тут со своей вычислительной техникой. Только мешаешь. А сами через такой склад кормятся!
- Погоди, погоди! - Синчер перебил Тимофея Павловича. - Вот я пережил уже четырех своих начальников, работая здесь. И ни при одном не смог осуществить свой проект, который у меня пылится в столе уже шесть лет. Не добился! А в этом проекте более крупные проблемы решаются, чем, я думаю, в твоем письме! Но я же не пишу туда. Жду...
- А чего ждать? Я ждать больше не могу! - Тимофей Павлович остановился и резко повернулся к Синчеру. - Доработался чуть ли не до пенсии и никаких сдвигов в этой области не вижу! Что за система! Кто-то должен сказать об этом вслух?
- Ну, ты хватил! Во-первых, не трогай систему. Надорвешься! Во-вторых, тебе до пенсии еще, как медному котелку. За это время, я думаю, многое изменится. А потом. Почему ты говоришь, что никаких сдвигов? Все эти годы мы накапливали опыт, факты. Если бы этих лет не было, мы бы сегодня, может, и не видели бы, что вся эта система нуждается в переустройстве. Разве не так?
- Да все так! - Тимофей Павлович махнул рукой, давая понять, что ему все об этом давно известно и не об этом у него болит душа. - Пора уже от разговоров к делу переходить! Мы же деньги зря едим и немалые!
- Да, денег уходит многовато, - согласился Синчер. - Счет идет на десятки миллионов.
- Вот, вот! - обрадовался Тимофей Павлович. - И об этом я писал! Показал резервы экономии, попросил обратить внимание на эти вопросы.
- Но ты же нового-то ничего не написал! Мы здесь все знаем об этом. И там, я уверен, знают не меньше нашего.
- Знать-то вы знаете, да делать ничего не делаете! - Тимофей Павлович начал задираться. - Да и не сделаете! Проблема эта - общегосударственная! Вон, например, поставщики: как слали оптовым базам десятки лет сопроводительные документы на товар как лично художественно оформленные, так и сегодня продолжают слать. На некоторых их них разве что стихов не хватает! Да и то только потому, что составители таких документов не владеют азбукой стиха. Не то бы мы все стали свидетелями "фактурной" поэзии. В этом деле на уровне страны царит полнейший произвол и никто никакой ответственности не несет!
- Ну, это только одна из проблем. И она, кстати, решается, хотя и медленно. Не так ли? - Синчер посмотрел, останавливаясь, на Тимофея Павловича.
- Решается-то она решается. Да не так быстро и кардинально, как хотелось бы. Впечатление, что она и не решается. Двадцать лет, насколько мне известно, тянется эта канитель!
- Ну, хорошо, - перебил Синчер, - я вижу, ты вошел во вкус. О чем же конкретно ты написал в письме?
- Конкретно? Пожалуйте вам конкретно. Пожалуйста...
Они еще долго ходили с Синчером по давно опустевшему коридору и говорили, говорили, говорили. Полупальто и пыжиковая шапка Тимофея Павловича сиротливо одни висели в пустой раздевалке. Наконец оба остановились перед дверью в 121-й кабинет.
- Я все жду, что ты спросишь, почему именно я разговариваю с тобой о твоем письме в Москву. Ты ведь его писал как гражданин страны?
- Ну, это слишком громко сказано! - покраснел Тимофей Павлович.
- В письме ты не указывал, где работаешь?
- Нет. Я дал только свой домашний адрес.
- Дело в том,- продолжал Синчер, - что ты имел намерение обратить внимание на проблему. И не более. Не так ли?
- Ну... - помрачнел Тимофей Павлович, чуя что-то недоброе.
- А там посчитали, что это народная жалоба и вернули письмо нашим соседям.
При этом Синчер кивком головы показал, где находятся их соседи. Тимофей Павлович еще больше помрачнел: это были очень серьезные соседи, которые всяким делом занимались в чрезвычайно специфической плоскости.
- Так вот, - продолжал Синчер, - исполнение письма находится на строгом контроле. Они должны ответить Москве и тебе. А что им отвечать? И как им решать твои ребусы? Ты, миленький, потревожил, знаешь кого? Ты представляешь себе положение этой фирмы?
- Да не нужно мне никакого ответа! Я не для ответа писал! Я и не ждал ничего! - от такого поворота событий Тимофей Павлович почувствовал, как лицо его начало просто гореть. С фирмой, о которой упомянул Синчер, лучше было не иметь никаких дел. Ни левых, ни правых.
- Тебе не надо, а им надо! - не унимался Синчер. - Письмо - на контроле! Соображаешь?
- Соображаю, - пробурчал Тимофей Павлович. - И что же теперь?
- Как это что? Да они там, когда твое письмо из Москвы получили, страшно вознегодовали! Как такую, мол, информацию можно было выпускать из республики? Если бы не отвечать Москве, то это еще куда бы ни шло! А тут надо что-то делать! Там сейчас такой муравейник! Ну, вот они и давай искать, мол, кто у нас в республике за АСУ отвечает. Звонят мне. Ты, мол, такого-то знаешь? Да, отвечаю. Знаю. А что он за человек? Может он не в себе? Не замечал, мол? Вот пишет тут отцу всякое!
- Кому, кому? - не понял Тимофей Павлович. - Какому отцу?
- Ну, ты совсем уже! - Синчер укоризненно посмотрел на Тимофея Павловича. - Не догадываешься, о ком они говорят?
- Вот болваны! - возмутился Тимофей Павлович. - Да не ЕМУ я писал. Не ЕМУ!
- А они утверждают, что именно ЕМУ! В общем, отвечаю им про тебя, что ты человек вполне нормальный, знающий, хороший специалист. Был на руководящей работе. Правда, имелись определенные шероховатости. Но не по его, мол, причине. Ну, говорят, давай заходи к нам, посмотришь письмо, надо, мол, как-то отвечать. Срок истекает. Я и сам ничего не понимаю, чего это их так переполошило? Я прочел письмо: ничего особенного. Ты привел там данные из трех отраслей, а я мог бы привести еще из многих. И все там нормально. Все - правда. Но мы-то ведь здесь этих поставленных тобой вопросов не решаем! Точнее - это не наша компетенция! Это ведь союзный уровень!
- Вот я потому и писал туда, что это не ваш уровень! - подхватил Тимофей Павлович. - Что они там, в Москве, не понимают?
- Кто их там знает! Письмо-то сюда вернули и требуют ответа! Как им ответишь? Что вы, мол, товарищи дорогие, извините, ошиблись и это надо вам решать?
- Ну и ответьте так!
- Да ты прямо, как ребенок! Тогда и для нас подойдет такой же вопрос, какой мне задали в фирме в отношении тебя!
- Какой?
- "В своем ли ты уме"! Вот какой! И что за сим может последовать, нетрудно догадаться! Тебя легче закопать, чем отвечать!
- Ну, тогда давайте я снова напишу туда и скажу открытым текстом, что они меня неверно поняли и что местные не виноваты. И т.п. Что меня неверно поняли. Что проблему им там, в Москве, надо решать, а не пересылать сюда письма. Что я не хочу никаких ответов. Просто хотел, чтобы они знали, что проблема существует, и что если ее игнорировать, сотни миллионов рублей и дальше будут выбрасываться на ветер.
- Не вздумай этого делать! - почти вскричал Синчер. - Не вздумай! Во-первых, пока они твое письмо получат, истечет формально срок исполнения этого письма. Этого-то никто, понял: НИКТО! Не допустит любыми путями. Во-вторых, получится, что наши местные оказались не на высоте перед теми, московскими. В третьих... В общем, это еще худшим пахнет, - неожиданно завершил он.
- Так что же делать? - Тимофей Павлович был краснее красной рыбы. - Не предполагал я, что из доброго дела такая каша заварится!
- Вот то-то и оно, что не предполагал. А стоило бы с твоим опытом. Не мешало бы. В общем "там" решили, что пока я с тобой поговорю, выясню, чего же ты хочешь, доложу им, а уж потом, видимо, и они с тобой станут беседовать. В общем, готовься. Я думаю, что тебе наверняка придется с ними встречаться.
3.
На работе Тимофею Павловичу долго пришлось объясняться с руководством. И директор, и главный много и с большим подозрением выспрашивали, зачем же все-таки он так срочно понадобился столь высокому начальству, о чем писал в своем письме в Москву и вообще: зачем писал. И когда, наконец, только твердо оба поняли, что все это им никак и ничем не грозит, немного успокоились и поотстали. Директор при этом вспомнил случай, как один рабочий откуда-то с Мангышлака написал в Москву о том, что некоторые решения 21-го съезда КПСС не выполняются в их местности и как спустя некоторое время в горкоме партии их небольшого городка раздался звонок прямо из самого ЦК КПСС, звонок, насмерть перепугавший все местное начальство. Звонивший, секрктарь ЦК, просил передать свою личную благодарность рабочему, поднявшему серьезные вопросы в своем письме.
- Но ты, Вологодцев, не работяга и получишь бо-о-о-льших пендалей за свою писанину, - в конце своего рассказа серьезно заключил директор. И немного подумав, добавил:
- В следующий раз ты пиши прямо в ООН! Чего там мелочиться!
Тимофей Павлович чувствовал себя, как в детстве перед поркой его вечно недовольной и раздраженной им матерью.
На четвертый день после этого разговора Тимофея Павловича перед обедом вызвал к себе главный.
- Снова звонил Иван Андреевич, - хмуро сообщил он, - и просил, чтобы ты немедленно с ним связался.
Тимофей Павлович вздохнув и мысленно ругнув самого себя за то, что ему всегда достается на орехи только за то, что он не может спокойненько, как другие, молча получать свою зарплату, направился звонить Синчеру из кабинета главного. Пока Тимофей Павлович звонил, главный и находившийся тут же замдиректора с нескрываемым любопытством постоянно поглядывали на него, отложив разговор, который они до того вели между собой . Синчер сообщил, что его и Тимофея Павловича приглашают на беседу товарищи, занимающиеся письмом. Оба должны прибыть завтра в 10 утра к товарищу Ботезату. Договорились встретиться у Синчера завтра в девять тридцать.
- Ну что? - почти в один голос спросили зам с главным, как только Тимофей Павлович положил трубку, - чего он хочет?
- Пойдем с ним к какому-то Ботезату из соседней с ними фирмы. Приглашает.
- О-о-о! - оба многозначительно переглянулись.
- Да-а! Заварил ты кашу...- о чем-то размышляя, проговорил главный. - Смотри...
Тимофей Павлович почувствовал, как внутри у него стало вдруг нестерпимо горячо от закипающей злости.
- Сам заварил, сам и расхлебаю, - как можно спокойнее произнес он. - Помощников не потребуется. - И вышел.
Назавтра Тимофей Павлович с Синчером в положенное время уже стучали в кабинет с яркой табличкой "Ботезату Ф.М."
- Не как у Синчера: у того целый список на двери,- подумал Тимофей Павлович.
Вошли. Их встретил маленького росточка коренастый мужчина лет тридцати пяти с рыжеватыми и зачесанными назад волосами.
- Маловат ростом-то, - удивился про себя Тимофей Павлович. Он слыхал, что в эту фирму на службу берут только высоких и очень высоких. - Касту готовят, - еще подумал тогда Тимофей Павлович. - А лучше бы с мозгами брали: толку было бы куда больше.
На этом его крамольные мысли закончились, потому что хозяин кабинета молча подал обоим вошедшим свою маленькую ручку. Сначала Тимофею Павловичу, потом - Синчеру. Жестом молча пригласил садиться. Оба молча сели за приставной столик друг против друга. Ботезату сел за стол, достал из желтой кожаной папки письмо Тимофея Павловича. Тот успел заметить, что многие места в письме были подчеркнуты жирным красным карандашом.
- Вам известно, - холодно начал Ботезату, обращаясь к Тимофею Павловичу, - что ваше письмо переслано нам для разбирательства по существу вопроса и что мы должны дать ответ на письмо вам и Москве?
- Да, известно, - коротко ответил Тимофей Павлович. - Мне об этом говорил Иван Андреевич.
- Объясните мне кратко, - продолжал Ботезату, глядя в упор на Тимофея Павловича, - что вы хотели сказать этим письмом? Что у нас творятся беспорядки? Даже если они иногда и имеют место, то разве нельзя было прийти к нам и поставить нас в известность? - он сделал сильное ударение на слове "нас". - Добиться, наконец, чтобы мы (снова акцент!) приняли меры? Зачем сразу писать наверх отцу? - Взгляд Ботезату был явно без любви к ближнему. - Ох, без любви! - подумал Тимофей Павлович, но глаз не отвел. И такого величания он сроду никогда не слыхивал.
- Простите, пожалуйста! - перебил он наступление Ботезату, - вы мое письмо рассматриваете как жалобу? Я вас правильно понял?
- А как прикажете его расценивать? Как пожелание нам здоровья и всяческих успехов? - Ботезату начал краснеть и стало видно, что не от скромности. - Вы пишете о непорядках в разработке и внедрении АСУ, приводите примеры из трех отраслей. Из ваших примеров видно, что в этих отраслях не хотят налаживать учет и поэтому мешают внедрению АСУ? Не так ли? А отсутствие учета позволяет им ловить рыбку в мутной воде? И обо всем этом вы, минуя нас, ТУДА пишете? - он взглядом показал, куда было адресовано письмо. - Получается, что мало того, что мы не выполняем Решения Партии, но напрямую способствуем явному воровству?
- Вы неверно поняли содержание письма, - спокойно возразил Тимофей Павлович, хотя подумал про себя, что на воре всегда шапка горит. - Во-первых, я в письме не жаловался, а писал, что хочу обратить внимание ответственных товарищей на то, как не надо делать АСУ, а во-вторых...
- Ничье внимание вы ни на что не обращали, а просто жаловались! - не дав договорить, перебил его Ботезату. - Вот вы пишите...
- Простите, Федор Михайлович, - вмешался Синчер. - Я очень внимательно знакомился с письмом Тимофея Павловича и помню, что он в конце письма прямо так и написал: "Хочу обратить ваше внимание". Вон там, в конце. Посмотрите, пожалуйста. - Синчер привстал, пытаясь дотянуться до письма, лежащего перед Ботезату. Тот начал снова смотреть в письмо и через некоторое время произнес:
- Да. Вот здесь. Так и написано. Правда. Ну хорошо. Допустим, пусть будет "обратить внимание". А почему тогда вы обращали их, а не наше внимание? Они же все равно письмо нам переслали? Значит и они вас поняли, как и мы? Да вы посмотрите! Вот здесь красным подчеркнуты те места, где вы приводите примеры из отраслей! - он протянул письмо Тимофею Павловичу.
- Я не знаю, Федор Михайлович, как они там наверху поняли меня! Тимофею Павловичу стало жарко от того, что ему приходится доказывать что белое - это белое. Не замечая, он начал часто выбрасывать из себя слова, не совсем подходящие для этого учреждения, голос его повысился. Синчер тут же положил ему на плечо свою руку. Тимофей Павлович немного притормозил.
- Я хотел сказать, - после непродолжительной паузы заговорил Тимофей Павлович, - что если оставить в стране существующий порядок разработки автоматизированных систем управления, то возможны события, приведенные в моем письме. Вам тут на месте, Федор Михайлович, этой проблемы не решить. Она - на уровне тех, кому я и писал свое письмо.
- Да, да, Федор Михайлович! - быстро вступил в разговор Синчер. - Я полностью согласен с мыслью Тимофея Павловича. Поэтому он и написал, так сказать, через голову. А...
- Допустим, что так, - Ботезату поднял руку, останавливая Синчера. - Допустим. Но отвечать-то на письмо нам все равно надо! Нам! Что же мы ответим? Если бы вы, Тимофей Павлович, дали бы нам конкретные факты нарушений в отраслях... А не в общем, как вы пишете...
- Я же не ревизор, Федор Михайлович! - снова вспыхнул Тимофей Павлович. - Нарушения там есть постольку, поскольку существующая система проектирования АСУ не позволяет взять под машинный контроль основные участки учета и управления. А это позволяет работникам отраслей вести себя определенным образом. Измените систему - исчезнут и нарушения. В этом - мое предложение. Совет, если хотите. Но никак не жалоба. А совет подкреплен примерами.
- Ну а я? Что я-то отвечу на ваши советы? - Ботезату начал перебирать в руках листки письма. - Что я отвечу?
- Ответьте так, как есть на самом деле. Соберите специалистов, посоветуйтесь. Я уверен, что они поддержат мою точку зрения. По крайней мере, мнение Ивана Андреевича по этому вопросу вам уже известно. Как, Иван Андреевич?
- Я свое мнение уже высказал, - степенно ответил Синчер. - Но в отношении ответа тут не все так просто. Даже очень непросто.
- Ну, добро, товарищи, - поднялся из-за стола Ботезату. - Добро. Вашу позицию, Тимофей Павлович, я понял. Так и доложу Петру Гавриловичу. Если ко мне нет вопросов, то на этом закончим. Да, одну минуточку, - спохватился он, - позвоню Петру Гавриловичу. Может он пожелает с вами поговорить. - И начал набирать номер телефона. Тимофей Павлович явно без восторга ожидал результатов разговора Ботезату со своим начальником.
- Петр Гаврилович! - приглушенно заговорил в трубку Ботезату. - Тут у меня Иван Андреевич с товарищем Вологодцевым. Ну...тот, который жалобу в Москву написал... Да! Он! Но он, оказывается, имел в виду... Ясно, Петр Гаврилович! Ясно! А вы не хотели бы с ним поговорить? Ясно, Петр Гаврилович, ясно! - лицо Ботезату сразу приобрело прямо-таки землистый оттенок, и он осторожно положил трубку на рычаг. - Занят, не может сейчас, - хмуро пояснил он и начал выходить из-за стола. - Ну, всего доброго! - он подал руку Тимофею Павловичу.
Попрощавшись, Тимофей Павлович вышел в коридор. Следом вышел Синчер.
- Да... - заговорил он. - Это к лучшему, что Петр Гаврилович занят. Очень к лучшему. Видишь теперь, что получается из твоих благих намерений?
- Да вижу уже, будь оно неладно! - процедил Тимофей Павлович. - Не захочешь больше писать! Пусть оно все кругом горит синим пламенем! Им - не нужно. А я бьюсь за их идеи! И мне же за это - по зубам! Неплохая логика, а?
Подошли к лифту. Синчер нажал кнопку вызова. Молча подождали, когда двери раскроются. Также молча пожали друг другу руки и Тимофей Павлович вступил в тесное пространство кабины. Двери бесшумно за ним закрылись.
4.
Минуло несколько дней. Неприятный осадок, оставшийся у Тимофея Павловича после всех разъяснений, которые ему пришлось давать всем по поводу его письма в Москву, начал понемногу рассасываться. Однако все эти дни сильно щемило сердце.
- Устаю, наверно, на работе, - жаловался он жене. - Да и погода еще скачет.
- Погода здесь совсем ни при чем, - грустно улыбалась в ответ жена. А работа - тем более. Вспоминает кто-то тебя недобрым словом. Ох, вспоминает! Ты, часом, ничего такого не выкинул, как ты это умеешь?
- А что я по-твоему могу натворить? - тут же вскидывался Тимофей Павлович. - Человека, что ли, убить7
- Тебе муху-то и ту жалко прихлопнуть, горе ты мое горемычное! Не то что человека какого! Но что-нибудь выкинуть эдакое - вот на это ты большой мастер! Уж я-то тебя изучила, слава Богу. Наизусть! Тебе всегда больше всех надо! Вечно ты - впереди всех с красным флагом! Когда ты угомонишься, наконец?
- Ну, поехала, провидица, - прятался за газету Тимофей Павлович, но сам не переставал удивляться какому-то сверхестественному женскому чутью. Особенно - на беду, ожидавшую близких.
Прямо с утра в четверг Тимофея Павловича вызвал к себе главный и они вдвоем почти до обеда изучали входные документы очередной АСУ, которая находилась сейчас в разработке. Когда Тимофей Павлович уже было собирался уходить, вошел директор. Хмурый. Поздоровались.
- Ты, Вологодцев, думал бы побольше перед тем, как письма-то писать, - начал он, садясь напротив Тимофея Павловича. Тимофей Павлович ничего не ответил и, глядя на директора, ждал, что за сим последует.
- Тебе что некому писать? - продолжал директор. - Так заведи себе какую-нибудь бабу и пиши ей! Отводи с ней душу! А ежели еще не успел завести, то мы тебе путевку достанем куда-нибудь на юг. Поежай да постарайся уж в этом смысле. Одна польза от такого дела всем будет.
- Да я уж второй отпуск дома сижу, - зачем-то произнес Тимофей Павлович.
- Вот, вот! Оно и видно! - обрадовался директор. - Маешься! А из-за тебя кто-то должен шишки получать! Уже чуть ли не весь город знает, что у меня свой собственный писатель завелся! АСУ его, видите ли, не устраивает! Вся страна идет не в ногу, а он один - в ногу! Герой какой! Сейчас вот из министерства мне звонили: откуда я, мол, набираю таких шустрых работников? Намекают, дескать, плохо руковожу, раз у таких, как ты, много свободного времени остается.
- И что же ты им ответил? - они с директором были на "ты": вместе учились в одном университете и вместе же начинали работать.
- Что ответил? То и ответил: исправлюсь, мол. Виноват.
- Ну и как же ты думаешь исправляться? - Тимофея Павловича начинала забирать злость. - Ну как?
- Что ты занукал? Исправлюсь! Не твоя забота! Ты вон лучше поменьше пиши, тогда мне и исправляться не надо будет! - и вышел.
- Вот еще одному человеку из-за меня достается! - уже раздражаясь на себя, подумал Тимофей Павлович. - Что же это делается-то? Стараешься на работе - начинают коситься. Всем с тобой хлопотно. И подчиненным, и начальникам. Вот и с предыдущей работы ушел: руководство министерства замучили анонимками и звонками. А самого - комиссиями, на которые у нас всегда были большие мастера! За один год умудрились прислать двадцать одну комиссию! "Ты слишком рьяно взялся за дело! Осади! - сказал ему по-дружески председатель одной из московских комиссий. - Иначе придется уйти". Но он, Тимофей Павлович, был не в меру упрям, верил в правоту своего дела да и комиссии, как ни бились, ничего не находили и всегда вынуждены были писать положительные отзывы о результатах его работы. Но в конце концов получилось именно так, как и предсказывал ему опытный москвич: однажды вызвало его к себе руководство министерства и начало издалека. Вот вы, де, хороший специалист, дело свое в совершенстве знаете, умело руководите большим коллективом... В общем, было сказано много теплых слов. "Как на похоронах", - подумал тогда он. И оказался прав. Это самое руководство после стольких теплых слов предложило ему перейти к самому себе в замы. Так, дескать, будет лучше для всех. Иначе - уже в пути очередная самая высокая комиссия из Москвы и ему, руководству, на этот раз уже не выстоять. Да и райком партии поставил условие.
Тимофей Павлович страшно обиделся. Для чего же он так старался? Для кого? Для себя? Да что он, кроме неприятностей, на этой работе видел? Вон в других подобных организациях начальники отделов намного больше получают, чем он, директор, здесь! И почет им кругом за хорошую работу! А здесь кроме ежедневных выволочек, прямых или косвенных, ничего не видишь! Короче - он тут же написал заявление "по собственному".
- Не порите горячку! - пыталось как-то вразумить его удивленное руководство, на памяти которого никто не покидал насиженного места и добровольно уходил из номенклатуры. - Не порите горячку! - уговаривало его руководство. Но он был неумолим.
Назначили нового директора, человека в этом деле совсем не сведующего, но более опытного в делах житейских. Может быть, даже более доброго, что ли. А Тимофей Павлович с большим трудом, почти просрочив непрерывный стаж, кое-как устроился на теперешнюю свою работу: помогло лишь то, что в этой организации до этого три года потратили на разработку АСУ, ничего не сделали, истратили полтора миллиона казенных денег, а в итоге многие разработчики разбежались вместе с главным ответственным - директором. И хотя уволенных, да еще по требованию райкома партии, таких, как он, бывших директоров никуда никто не брал, ситуация была катастрофическая и делать было нечего. Тимофея Павловича, зная его бешенную работоспособность и организаторскую хватку, скривясь взяли. Вновь назначенный вместо него директор в свой первый год работы трижды лично приезжал к Тимофею Павловичу на его новую работу и уговаривал вернуться и пойти к нему в замы. И трижды получал от Тимофея Павловича вежливый отказ, несмотря на то, что уже при их первом знакомстве он понравился Тимофею Павловичу. Было видно, что этому уже умудренному опытом и годами человеку трудно будет на новом месте. Но Тимофей Павлович ничего с собой уже не мог поделать и никакие блага не могли изменить его поведение.
На новом месте, как было сказано выше, Тимофей Павлович начинал трудно. Здесь работали на новой технике, не знакомой ему, так как его прежнее министерство было намного беднее нынешнего и не могло закупать современную технику. Все предстояло осваивать прямо на ходу. Положение усугублялось еще тем, что коллектив отдела, которым ему предстояло руководить, по многим причинам был почти развален, имел чемоданное настроение и ждал удобного случая, когда можно бросить все и разбежаться. А руководство не понимало, что и как должен был делать "этот отдел умников", на котором лежала вся работа по созданию АСУ. А эту систему надо было сдать в эксплуатацию ровно через два месяца.
- Я и не знал, что программы так трудно делать, - скажет потом честно провалившийся на АСУ директор на прощальном банкете в честь своего номенклатурного перехода "на другую работу". Скажет честно и честно уйдет на повышение в министерство. Следом за ним, правда уже без прощального ужина, поскромнее, честно сбегут почти все сотрудники его нового отдела, и Тимофей Павлович останется только с одним "старичком" и четырьмя недавно прибывшими молодыми специалистами, которые ничего подобного в глаза никогда не видывали... В конце концов все наладится и Тимофей Павлович за первые три года работы получит четырнадцать благодарностей от нового руководства организации, получит несколько почетных грамот и "повисит" на доске почета. На четвертый год, когда угроза срыва работ, постоянно довлеющая над коллективом все эти годы, наконец-то минет, наметится небольшая трещинка в отношениях Тимофея Павловича с теперешним директором, три года назад начавшим в новой для себя должности вытягивать организацию из прорыва. Их разногласия возникнут из-за разных скоростей вращения вокруг своих задач: Тимофей Павлович продолжит вращаться все с той же скоростью, что и в первые три года, а директор, устав от бешенной гонки, включит пониженную передачу. Нововведения Тимофея Павловича, связанные с риском, с беспокойством, с порчей отношений с некоторыми сотрудниками начнут раздражать директора: в кои-то годы наступило относительное спокойствие, а тут снова трать нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются...
Около трех Тимофея Павловича вызвали к телефону. Он недоуменно пожал плечами: ему почти никогда никто не звонил. Даже жене и дочери он запретил по пустякам звонить на работу: в организации всего один телефон и если каждому начнут звонить... Звонил Синчер. Вероятно от волнения, он не говорил, а почти кричал в трубку. Повидимому, боялся, что Тимофей Павлович его неточно поймет. Звонил от самого Петра Гавриловича, шефа Ботезату. Тимофею Павловичу надлежало срочно прибыть к Петру Гавриловичу, который хочет с ним побеседовать. Указания на сей счет директору даны. Пропуск заказан. Все. Разговор происходил в кабинете директора и когда Тимофей Павлович положил трубку, директор вынул из кармана несколько талонов на такси и протянул их Тимофею Павловичу:
- Давай, писатель, только побыстрей.
- Ладно, не горюй, - улыбнулся в ответ Тимофей Павлович. - Мне ведь попадет, не тебе. Тебе - не за что. - И повернулся было уходить. Но тут взгляд его остановился на одном из балконов жилого дома напротив. Там на девятиэтажной высоте плотный мужчина в пыжиковой шапке брезгливо держал за лапки отчаянно трепыхавшегося петуха и спокойно прилаживал топором его обреченную голову на стоявшее у железной решетки круглое полено...
1983 г. Кишинев[Author ID1: at Sun Mar 13 09:48:00 2005 ]
Бешеные
Сон был по-настоящему пенсионным: во сне ОН мыкался по разным фирмам в поисках хоть какой-нибудь работы, даже не вспоминая при хозяевах, что ОН классный программист и что знает систему управления чуть ли не десятком отраслей: от самого нижнего звена до аппарата министерства. ОН готов был клеить коробки или сидеть "на телефоне", быть "диспетчером со знанием компьютера" или посудомойкой, водителем категории "В" или реализатором какого-нибудь Гербалайфа и многим еще кем вплоть до переводчика с пяти иностранных языков или до журналиста, но... Работодатели бегло смотрели на НЕГО и, не задавая никаких вопросов, не углубляясь ни в какие детали ЕГО знаний и способностей, быстро говорили "нет" и отворачивались, отворачивались, отворачивались равнодушно и, не обращая ровно никакого внимания на НЕГО, продолжавшего еще некоторое время потерянно стоять перед ними, занимались своими более важными, чем судьба этого пожилого и далеко несытого человека делами. Массово требовались "парни", "охранники до 35 лет", "юные леди б/к", т.е. без комплексов, массажисты и тем более массажистки, банщики, агенты по рекламе, повара "на интересную работу" и прочий подобный молодой и нетребовательный люд. Не нужны были только те, кто "в возрасте". Ни на что. Ни на какую работу. С любыми знаниями, способностями и умением. Едва завидев их на своем пороге, новые хозяева жизни мгновенно соображали, о чем дальше пойдет речь и, не давая вошедшему даже рта открыть, холодно бросали в его сторону: "У нас для вас ничего подходящего нет".
Потом ОН оказался на каком-то высоком обрыве. И не один, а с группой каких-то неизвестных людей. Ни молодых, ни старых. Внизу под обрывом гремел стальными колесами по изогнутым рельсам длинный-предлинный товарняк : теплушки, теплушки, теплушки... В окне одной из них, расположенном почти под самой ее крышей и забитом частой металлической решеткой, ОН увидел себя маленького, хватающего широко раскрытым детским ртом "свежий воздух" - черную вонючую гарь натужно сипевшего на подъеме паровоза, перемешанную с мокрым белым паром.
- Боже мой, - подумал ОН, - неужели сейчас война? Я же уже на пенсии! Но отчего так хочется есть, как в той, военной, теплушке? И дышать нечем... ОН начал выбираться из группы что-то галдящих людей, стараясь не свалиться с обрыва и не сводя при этом своих глаз с гремящего там, внизу, бесконечного товарняка. Теплушка с его детским лицом в зарешеченном квадратном маленьком окошке стояла на месте, несмотря на остальные бешено мчащиеся вагоны. ОН молча смотрел на себя маленького и почувствовал вдруг, что дышать стало намного легче и уже не пахло паровозной гарью. - Там же мать моя внизу, в теплушке, - подумал ОН. - На двух огромных узлах и чемодане, у самой буржуйки. А вокруг - не продыхнуть: женщины и дети, женщины и дети. Узлы, узлы, узлы. Детский плач и материнские стоны... Да нет же! Мать давно умерла! Девять лет назад! Сегодня же была как раз годовщина ее смерти! А я начал забывать ее лицо!
ОН попытался свеситься с обрыва и через себя маленького заглянуть внутрь вагона. Хотел увидеть свою мать молодой. Но вагон вдруг сильно дернулся и кто-то здесь, на вершине обрыва схватил ЕГО за руку:
- Не надо, - сказал этот "кто-то", - не надо. Не положено этого делать. Пусть едет. А мы поедем в Баку. Работать.
- В Баку? - ОН аж передернулся. - Зачем в Баку? Там же мать моя похоронена! Поезд туда разве идет?
- Какой поезд? - спросил "кто-то".
- Ну, вон тот, в котором я маленький еще. Там, где мама молодая.
- Нет, - махнул рукой "кто-то". - Этот поезд сначала поедет на Кубань, а потом - в Кишинев, в Молдавию.
- Так я же сейчас сижу на обрыве в Молдавии, - подумал тут же ОН и услышал, как кто-то ЕГО окликнул: Тимофей Павлович! Так ты едешь с нами в Баку?
ОН вдруг вспомнил, что в ЕГО кармане лежит письмо от его старого школьного друга Тольки Гулина, Рыжего, которое ОН получил только вчера. Рыжий писал, что живет в Баку и хочет, чтобы ОН, Тимка, к нему приехал: у них работы для пенсионеров навалом.
- Захвати своих друзей, - приписал в конце письма Рыжий, - работы хватит всем.
- Ребята! - закричал ОН, увидев вдруг разбегающихся своих друзей, - Ребята! Давайте позвоним Толяну! Он всех нас там устроит на работу! Дайте мне кто-нибудь "мобильник"!
- Да со Старой Почтой никакой связи нет! Как всегда! Забытый Богом район! - перед НИМ стоял какой-то длиннобудылый сухой старик. - Да и Рыжий-то пропал еще в 1963-м! Ты что совсем память потерял?
- Я? А вы... То есть... Это ты, Сашка? Янученко? Янкель?
- Ну, вот наконец-то! Продуло твои старые мозги! Друг называется!
- Так сорок лет же почти прошло! А Рыжий ведь точно потерялся! Помнишь, Янкель, как мы все спрашивали с тобой его жену? Мол, куда он подевался? Мать его померла, он их домишко продал и решил деньги за дом отвезти своему дяде, брату матери, в Закарпатье. Сел в поезд и - с концами. Никакие всесоюзные розыски его так и не обнаружили нигде...
- Но тогда чего же ты хочешь ему звонить домой на Старую Почту? - Янкель насмешливо смотрел на НЕГО. - Ты, Тимка, точно совсем из ума выжил! Письмо же, ты сказал, из Баку? Причем тут Старая Почта в Кишиневе?
- А там, на Старой Почте, наконец, открыли недавно целых два маршрута троллейбуса! - радостно вспомнил ОН. - Помнишь, как мы втроем, ты, я и Рыжий об этом мечтали?
- Да, да! - усмехнулся Янкель, - не прошло и пятидесяти лет...
Вдруг в глаза ЕМУ ударил сильный луч яркого света и круча, на которой они находились, мгновенно стремительно рухнула куда-то вниз... ОН от неожиданности охнул и сна, такого тяжелого сна, как не бывало: сквозь неплотно прикрытое старой желтой тяжелой шторой окно прямо в глаза било яркое и жаркое летнее солнце. Часы на стене напротив показывали девять утра. Со стороны кухни слышался шум посуды: видимо, жена уже давно отзавтракала одна и отмывала следы своей поздней трапезы.
- Ну и сон, - подумал ОН, отворачиваясь к стенке таким образом, чтобы солнышко его не доставало. - Ну и сон! Чего только не приснится тебе, когда ты - на пенсии! Хотя в отношении работы - будто все наяву. А что касается Рыжего... И матери... Вчера действительно минуло ровно девять лет со дня ее смерти, а я, подлец, забыл все начисто. Ходил целый день, слонялся по квартире, смотрел чемпионат мира по футболу, а про свою родную мать - ни-ни. Действительно, негодяй! Похоже, что она мне "оттуда" слегка об этом намекнула. А Рыжий? Наверно, и он "там"? И давно. С тех пор, как пропал. И тоже о чем-то напоминает? Только вот о чем?
И ОН вдруг сразу вспомнил, о чем. И похолодел.
- Они "там" все знают о делах и делишках наших земных! Все-все! Не укроешься! Не "позабудешь"! - и вся картина почти что пятидесятилетней давности предстала перед ним точно на широкоформатном экране, во всех мельчайших подробностях и деталях...
... Это была вторая после приезда их семьи в Кишинев снятая ими квартира. Даже не квартира, а комнатка в типично крестьянском домике в глубине самой-самой магалы на Старой Почте. Замысловато петляющая узкая, с глубокими выбоинами от часто проезжающих здесь жутко скрипящих каруц, запряженных ленивыми светлыми, желтого песка, волами улочка упиралась своими крутыми боками в безжалостно грязные плетни, охранявшие от нее маленькие кособокие хатки под красной черепицей, в основном крутого известково-синего цвета. Ширина улочки была ровно в одну каруцу, так что когда ОН поднимался по ней к себе домой и на его пути встречался какой-нибудь "воловий экипаж", ЕМУ приходилось немедленно искать глазами вход в ближайший дворик, т.к. к тому от "трассы" ответвлялось примерно полутораметровое пространство. ОН тут же прижимался на этом пятачке к всегда пахнущему кизяками плетню и таким образом пропускал всю воловью процессию. Все улицы в те времена на Старой Почте не имели названий и были под номерами: первая, третья, седьмая, двадцатая... ОН и сейчас их так называет, когда оказывается в тех местах. Имела свой номер и эта улочка: пятый. Малюсенький домик, где они поселились всей семьей, был разделен посередине на две комнатушки совсем крошечной прихожей, из которой прямо по ходу можно было попасть в такую же малюсенькую кухоньку, а налево располагался вход в их комнатенку. Направо, точно по симметрии, располагалась точно такая же комнатушка, в которую вела узкая, до половины сверху застекленная скорее дверца, чем дверь. Это помещеньице снимала одна молодая семья: муж с женой и маленьким ребенком. Муж - огромный, словно наскоро отесанный могучий дуб, белорусс дядя Миша. Его жена - маленькая вертлявая и никогда не умолкающая, когда ей случалось быть дома, черноглазая украинка тетя Валя. Сынок их, Мишка, которому к тому времени уже стукнуло два с половиной года, по такому солидному возрасту был оставляем один дома "на хозяйстве", пока родители отдавались работе, поднимая, на ноги, как и многие им подобные, послевоенную разрушенную республику. ОН до сих пор ярко помнит, как приходя домой из школы, едва вступив в прихожую, всегда заставал одну и ту же щемящую картину: маленький Мишка, весь в засохших и свежих соплях и слезах молча глядел на НЕГО сквозь зарешеченное толстыми железными прутьями оконце в двери, топчась своими ножками на предусмотрительно оставленной матерью для подобной цели табуретке, матерью, задавленной погоней за куском хлеба. Хозяйка домика в нем не жила, поэтому Мишка был единственным живым существом, постоянно глядевшим в полутемное пространство прихожей из-за железных решеток с раннего утра, когда все убегали на работу, и до трех часов, когда ОН приходил из школы. До прихода с работы тети Вали ОН как-то пытался развлечь малыша через решетчатое тусклое оконце, строя ему всякие уморительные рожицы и разные "козы". Однако в большинстве случаев вместо того, чтобы хоть чуть-чуть улыбнуться, ребенок начинал отчаянно реветь и звать на помощь свою маму. В такие минуты ОН молча уходил в свои "апартаменты", усаживался на кровать, подбирая под себя ноги - от земляного пола постоянно тянуло холодом и сыростью - и беспомощно смотрел куда-нибудь в одну точку: ему тоже хотелось реветь и звать свою маму на помощь. Но мама приходила с работы поздно, заходя предварительно в ясли за ЕГО маленьким сводным братом, а потом еще - в полупустые магазины. А когда уже переступала порог их комнатенки, дело редко обходилось без одного-двух крепких подзатыльников: то ОН не сделал то-то, а то что либо сделал да не так. Повод находился всегда. Отчим же приходил очень поздно, когда они уже давно находились в своих постелях: ОН - в небольшой кроватке, приставленной к единственному оконцу комнатенки, сводный братик - на крохотном деревянном топчанчике, наспех сколоченном отчимом из горбыля и помещенном в ногах ЕГО кроватки, мать - на полу, на земляном полу, на котором тоже кое-как под постелью был разложен горбыль, поверх которого было набросано какое-то ненужное тряпье, а уже на нем - два матраса, а поверх - перина. Отчим, как всегда, заявлялся "хорош", на злой шепот матери огрызался, посыпая всё вокруг через слово отборным ленинградским матом. Перепалка продолжалась и в постели, куда отчим нырял сразу же, как только ему удавалось на некоторое время отбиться от матери. Но та его и там доставала. Затем наступала небольшая пауза, потом - некоторое шевеление и... поехало! Слышно было, как отчим безо всякой предосторожности вовсю "пашет". Это дело часто продолжалось настолько долго и громко, что мать не выдерживала и возмущенно, как ЕМУ тогда казалось, прерывисто шептала:
- Ваня, кончай! Ну что ты меня мусолишь? Ты же не хочешь уже! Дети же не спят!
Но "Ваня", ни на что не обращая внимания, пыхтел и пыхтел дальше, как паровоз...
Прожили они на этой квартире всего одну зиму: весной померла старуха-хозяйка, которую ОН и видел-то всего однажды. Тут же мигом объявились родственники-наследники и квартирантов в пылу дележа выставили на улицу в один день. Мать с отчимом бегали, взмыленные, по магале в поисках хоть какого-нибудь пристанища, а ОН с маленьким братишкой сидел на узлах, сложенных в кучу тут же во дворе. Братишка громко ревел и звал маму, а ОН зло смотрел на деловито снующих туда-сюда незнакомых людей. В конце концов все встало на свои места: они поселились на новой квартире, а к осени получили участок под индивидуальное строительство там же на Старой Почте. Наспех, убегая от ноябрьских холодов, они с отчимом слепили на своем уже участке небольшую под толевой крышей времянку - домик из кухоньки и небольшой комнатки, - настелили везде дощатые полы, сложили из красного кирпича печурку, затопили ее и... Жизнь казалась царской...
Этой же осенью, будучи в восьмом классе, ОН познакомился и подружился с Рыжим. Сначала, придя после каникул в класс, ОН не обратил особого внимания на новенького, сидевшего от НЕГО далеко, в другом конце класса. Это был обыкновенный конопатый белобрысый мальчишка одного с НИМ роста, ничем в классе не выделявшийся, спокойный и тихий. Однажды на уроке литературы учительница задавала на дом учить монологи из "Горе от ума". На каждый монолог назначалась пара учеников. ЕМУ в пару попался этот конопатый. Когда они вдвоем стали договариваться, как вместе учить монолог и определяли место, у кого из них дома это сделать, оказалось, что "Толик" - так он себя назвал при их знакомстве - тоже живет на Старой Почте.
- Где? - тогда спросил ОН у конопатого.
Тот назвал адрес. ОН обомлел: этот был как раз тот самый домик, где они бедовали вместе с маленьким сопливым Мишкой и его родителями и откуда их всех так беспардонно выставили на улицу. - Ничего в жизни случайного не бывает, - скажет впоследствии себе ОН, к тому времени уже "отягощенный" не только знаниями математики, физики и философии, но и прожитыми годами.
ОН пришел к Толяну домой больше из любопытства. Их бывшая комнатка осталась нежилой: новыми хозяевами там было устроено нечто вроде кладовки. На земляном полу валялся всякий хлам, под стеной напротив входной двери стоял верстак, над которым висели разные столярные инструменты. Справа от двери, в углу валялись какие-то полусломанные шкафчики, а у оконца, где когда-то стояла ЕГО кроватка, твердо стояла пузатая железная бочка с застоявшейся водой. Новые хозяева, родители Рыжего, купили этот домик, приехав откуда-то из-под Якутска. Отец был столяром. Был он очень худ, бледен, ходил всегда сгорбленным, с постоянной папироской во рту, имея тут же запасную за ухом. Он был намного-намного старше своей совершенно молоденькой симпатичной и бойкой жены тети Клавы, толькиной матери. Тетя Клава работала кондуктором на трамвае, занимая по тем временам довольно престижное положение в кишиневском обществе: в маленьком городе имелось всего два трамвайных маршрута и кондукторов народ всех знал в лицо. Кроме известности, место давало немалые свободные деньги, отчего Рыжий каждый день получал приличные суммы на карманные расходы. Благодаря монологу Чацкого, Толян и ОН сдружились настолько, что, как это бывает в таком возрасте, дневали и ночевали друг у друга, незаметно для них самих формируясь с течением времени в зрелых и крепких парней. Рыжий вымахал в высокого чубастого худощавого малого, а ОН остался ниже Толяна на голову, но стал крепкого телосложения. Наступила последняя предармейская осень. ОН к тому времени дважды пытался поступить в ВУЗ и оба раза неудачно. Первый раз, чувствуя и видя, как нахально "валит" его экзаменатор на любимом ИМ школьном предмете - химии, по которому у НЕГО всегда были одни пятерки, ОН не выдержал и швырнул прямо в лицо тому подонку экзаменационный лист... Второй раз по настоянию матери ОН отдал документы в ВУЗ, в который не хотелось идти. За полмесяца до начала экзаменов мать укатила со своим новым мужем в отпуск, оставив ЕМУ для успешного поступления какую-то записку к одному влиятельному лицу. ОН в таких условиях не стал готовиться, никакой записки никому не передавал и нехотя сдал экзамены на одни тройки. Решил, что осенью уйдет в армию. К тому времени он работал на одном химическом производстве, где из нарезанного тонкими длинными лентами светлосерого каучука с помощью авиационного бензина варил клей, перемалывая эту смесь в устройстве, подобном бетономешалке. Эта "бетономешалка" от постоянной натуги всегда дышала нестерпимым бензиново-резиновым жаром. Рыжий ушел еще после девятого класса работать на столярное производство: пошел по стопам отца, который к тому времени уже помер. Они остались вдвоем с тетей Клавой.
Однажды, договорившись с Толяном встретиться у него дома, чтобы оттуда пойти на танцы, ОН пришел к другу в назначенное время. Постучал. Долго никто не открывал, и ОН уже собрался было уходить, как вдруг дверь приоткрылась и из-за нее высунулась мокрая голова тети Клавы.
- Заходи, - позвала она, - я сейчас.
ОН вошел, закрыв за собой дверь, в коридорчик и направо - в их единственную с Толькой комнатку. Комнатка была пуста, и ОН присел за ближайший край небольшого стола, одним своим концом упиравшегося чуть ли не в порог входной двери. Табуретка, на которую ОН опустился, знакомо скрипнула. Стал ждать. Минут через десять вошла тетя Клава в накинутом, чувствовалось, на еще мокрое тело голубеньком халатике. На голове у нее красовался тюрбан из красного махрового полотенца. На малиновом в мелких капельках лице были видны следы недавней бани. ОН мельком взглянул на тетю Клаву, а та, не дав ему и рта раскрыть, пояснила, улыбаясь и садясь за противоположный от него край стола:
- Вот баньку себе устроила в вашей бывшей комнате. Красота! А Толика нет. Ушел куда-то. - И на его вопросительный взгляд весело добавила: - Да кто вас знает, где вы сейчас, молодые, бродите! У вас - пора! Подожди немного, если хочешь. Договаривались, поди? Раз договаривались, может, придет, - сама себе поставила вопрос тетя Клава и сама же на него ответила, развязывая свой тюрбан и принимаясь расчесывать черные мокрые спутавшиеся косички волос. Волосы никак не поддавались серому костяному гребню, и тетя Клава, ухватив пучок их одной рукой и наклонив свою головку набок, другой рукой с силой пыталась их хоть как-то разодрать. Халатик у нее при этом немного разъехался в разные стороны и ОН почувствовал, что по ЕГО спине пробежали небольшие мурашки. Потом еще, еще... Потом разом заломило все внизу. ОН с большущим усилием отвернулся, чтобы смотреть в окно. Тетя Клава о чем-то щебетала. ОН, видимо, как-то судорожно потянул на себя лежавшую на столе свою левую руку, и тут же услышал звук чего-то упавшего на пол. Догадался, что упала школьная линейка, которую ОН перед этим вертел в руках от нечего делать. Машинально ОН наклонился, чтобы ее поднять. Линейка действительно лежала рядом со столом на полу. Даже - почти под столом. Когда ОН дотянулся до линейки и уже собирался было выпрямиться, взгляд его упал... О Боже! ОН еще не знал до сих пор женщин. ОН их даже никогда не касался. Нет, ОН, конечно, видел их на пляже. Но там были не они, не женщины. Там были загорающие, отдыхающие, какие угодно. Но только не женщины. Пляжные у него никогда не вызывали никаких мужских эмоций...
Тетя Клава, видимо, так увлеклась войной со своими мокрыми волосами, от которых еще шел пар, что... ОН увидел, что халатик свисал по бокам ее нешироко расставленных белоснежных полных красивых ножек, еще дышавших ароматом только что принятой баньки. Ножки были расставлены ровно настолько, чтобы изнутри выглядывало маленькое мохнатенькое черненькое... волшебство... ЕГО, увидевшего все это так близко... это... чуть не разорвало на части. Все у НЕГО так восстало, так напряглось, так заломило, так... Рассудок ЕГО был близок к помешательству. ОН еле-еле поднялся, чтобы снова сесть на табуретку, но с первого раза ЕМУ это не удалось. Неведомая силища тянула ЕГО туда, вниз, под стол... К этому волшебству... Чтобы его видеть... Чтобы его трогать...Чтобы им обладать... ЕГО всего ломало... ЕГО неимоверно корежило ... ОН задыхался...
Все же ОН пересилил это наваждение и твердо уселся на свою табуретку. Начал, стараясь казаться совершенно спокойным, смотреть в окно. Но тетя Клава, похоже, все же заметила его состояние: наскоро запахнула свой халатик и, придерживая его одной рукой и не говоря ни слова, быстро вышла на кухню, вход в которую был из коридорчика.
...Появилась она снова в комнате минут через двадцать. Причесанная, одетая в свой обычный, не банный, домашний халат, застегнутый на все, какие только были на нем пуговицы. Холодно сказала: - Возможно, Толик придет сегодня поздно. Похоже, что забыл о вашей встрече. Поди, у какой-нибудь девчонки сидит под забором...
ОН все понял и заторопился: - Да, да! Забыл повидимому. Передайте, что я завтра в это же время приду. Так я пошел...
- Хорошо, - не меняя тона, ответила тетя Клава и направилась впереди НЕГО закрыть за НИМ дверь.
Все последние сутки ОН был, словно очумевший: спал и видел перед собой черненькое пушистое волшебство, ходил и ощущал его в своих деревянных руках. Работал, и вместо запаха авиационного бензина и раскаленной резины ощущал банный аромат чуть расставленных нежных белых ножек. В течение всего дня ЕГО бил легкий нервный озноб. День же нестерпимо медленно тянулся. ОН ждал часа, когда снова окажется... В общем, ОН ждал и торопил время.
После работы, прибежав домой, ОН наскоро помылся, переоделся и с куском недоеденного хлеба во рту выскочил из дома.
- Когда придешь-то? Поздно? - крикнула ему вдогонку мать.
- Не знаю, - на ходу бросил ОН, - не знаю.
ОН почти не помнил, как по дороге к Рыжему купил бутылку "Вермута", сунул ее в боковой карман пиджака. ОН только все время молил Бога, чтобы Рыжего не оказалось в этот момент дома. И действительно, того дома, словно по заказу, не оказалось.
- Не дождался тебя твой дружок, - на этот раз весело сказала тетя Клава. - Уже час, как убежал. Сказал, что что-то срочное. Что у него там такого срочного может быть? - развела в недоумении руками она. - Да чего же ты стоишь? Проходи, отдышись. Потом и пойдешь. Чаю хочешь?
- Чаю? - переспросил ОН, торча колодой в дверях. - Чаю? Конечно, конечно! - подтвердил он одними губами, плохо слушавшимися его. - Чаю я попью.
А сам прикрывал рукой полу пиджака, чтобы не было видно, что в кармане - бутылка. Тетя Клава тут же поспешила на кухню готовить чай, а ОН прошел в комнату, уселся за стол на вчерашнее место, осторожно вытащил бутылку из кармана и поставил ее справа под табуретку: припрятал до поры. Стал ждать. А Бога, как это обычно бывает, забыл поблагодарить за все. Минут через десять появилась тетя Клава. На ней был уже вчерашний голубой банный халатик, полузапахнутый и закрепленный узким мохнатым пояском. Она принесла пыхтящий чайник, две чашки и поставила все это на стол. Затем на столе появилась сахарница, две чайные ложечки, тарелочка с горкой печенья на ней. И совсем уж неожиданно для НЕГО - плоская тарелка с ломтиками копченой колбасы и выложенными по краям черными ягодками маслин. ОН молча и смирно сидел и никаких вопросов не задавал: в нем все бродило еще со вчерашнего вечера, и ОН единственно, что пытался сделать, так это не дать случиться взрыву. По крайней мере, раньше времени.
Наконец, тетя Клава тоже уселась на вчерашнее место, и они оба приступили к чаепитию... Чаевничали молча, не дотрагиваясь ни до какой еды. ОН нервно смотрел в чашку на дымящийся темнокоричневый чай, изредка его потягивая. Тетя Клава тоже молчала, но ОН чувствовал своими лопатками, что она поглядывает на НЕГО. Движение тока крови внутри НЕГО начало ускоряться. Постукивало в висках. Обо всех остальных частях тела и говорить не надо было. ЕМУ казалось, что кое-где что-то вот-вот затрещит от пере...
- Да ты бери-ка вон колбаски, маслинок, - к месту нарушила молчание тетя Клава. - Бери, бери. Не стесняйся. Толик, поди, тоже у вас кушает иногда?
- Кушает, - в тон ей буркнул ОН. - Какие-такие маслины к чаю? Вон... у меня... Вон... у меня... есть кое что к маслинам! - Вдруг осмелел ОН, быстро сунул руку под табуретку и выставил на стол принесенную им с собой бутылку "Вермута". И посмотрел при этом прямо в глаза тете Клаве.
- Ой! И правда к месту! - без лишних вопросов не удивилась тетя Клава. - Все как раз к маслинкам и колбаске! Дай-ка я ее откупорю, родимую!
Она сбегала на кухню за штопором, ловко ввернула его в пробку и... хлоп! Пробка оказалась на штопоре. Тут же на столе мгновенно возникли два тончайшего стекла фужерчика и темно-красное густое крепленое вино потекло по их отдающим синеватым отливом стенкам...
Дальше ОН все помнит с какими-то перерывами: кажется, они допили его бутылку, а потом появилась бутылка "от тети Клавы", после, кажется... Да, да! Они достали патефон... Он еще очень удивился, что тот был почти новенький... Точно, точно! Потом... поставили "Рио-Риту" и принялись танцевать. На каком-то крутом и быстром "па" они не удержались и оба упали на кровать, где всегда спала тетя Клава. Кровать была широкая и на металлической панцырной сетке, поверх которой лежала большая и мягкая пуховая перина. Они повалились вдвоем, как на батут: их тут же подбросило вверх.
- Ха-ха-ха-ха! - залилась тетя Клава. ОН тут же неожиданно сильно обхватил ее обеими руками и не давая ей подняться, впился губами сначала в ее уже начинающую становиться немного дрябловатой шею, потом - дальше, дальше... Потом - в губы... Одна рука ЕГО держала ее голову со стороны затылка, губами он раздвигал ее губы, другая - яростно сдирала с нее тугие узкие трусики...
- Ты что это! - вдруг опомнилась тетя Клава. - Ты что, совсем обезумел?
Она уперлась ЕМУ в грудь своими маленькими, но сильными ручками и удивительно легко отшвырнула ЕГО от себя, как напроказившего котенка. ОН, не удержавшись, оказался на полу. Тут же мгновенно поднявшись, он, было, бросился снова на тетю Клаву, но та уже стояла на ногах и, выставив перед ним руки, строго предупредила:
- Не балуй! Успокойся! - и добавила: - Садись за стол!
"Рио-Рита " давно закончилась, игла царапала по старенькой пластинке и этот скрипящий звук начал приводить Его в чувство. Запыхавшийся, ОН сел на свое место и, глядя в стол, дрожащей рукой сунул недоеденную маслину себе в рот. Тетя Клава остановила пластинку, сняла ее с диска, поправила сильно сбившийся халатик и начала закалывать растрепавшиеся в борьбе волосы. Оба натянуто молчали.
- Тебе пора домой,- первой нарушила молчание тетя Клава.
- Да, - механически ответил ОН, - пора.
ОН уперся глазами в стол и не двигался.
- Пора, - повторил ОН, не находя никакого предлога, чтобы остаться. Тетя Клава уже привела себя полностью в порядок и тоже села за стол.
- Ну? - произнесла она, глядя на НЕГО, - что же ты сидишь?
Он никак не находил предлога, чтобы остаться, и продолжал тупо смотреть в стол.
- Ну? - строже повторила тетя Клава.
- Давайте допьем эту гадость, - ОН вдруг кивнул на ополовиненную бутылку "От тети Клавы", - и все. Меня не будет. Идет?
- Идет! - засмеявшись, согласилась тетя Клава. - Но смотри у меня, джигит! - она погрозила ЕМУ пальцем.
Он глянул на нее и сразу понял: они оба хотели одного и того же. Они оба хотели, и ничто не могло удержать их от этого шага. Никакая сила! Они, торопясь, допили вино, торопясь, снова завели патефон и поставили первую попавшуюся пластинку. Это оказался "Веселый май". Также торопливо обнялись в танце и... сразу оказались на мягкой перине. ОН, не отрывая своих губ от ее, сорвал с нее халатик, трусики, яростно сдирая при этом все с себя и, наконец, наконец-то погрузился в земной рай... Все это с ним было впервые в жизни. Эти ощущения, эти звуки, эти стоны, эти всхлипы... От неумения ОН постоянно тыкался не туда, рычал и стонал, плохо соображая, а она, разгоряченная, прерывисто шептала ЕМУ в ухо:
- Не торопись! Потихоньку! Вот так! Вот сюда! Маленький мой!... О-о-ох!
...Проснулся он на той же мягкой перине. В комнате было почти светло. Тетя Клава спала на кровати Толяна, стоявшей под прямым углом встык с материнской. Начал медленно одеваться. Тетя Клава тут же проснулась.
- Ты чего? Уходишь? - сонно спросила она.
- Да, - односложно ответил ОН. - А Толька, что так и не появился?
- Да шут его знает, где он болтается, - полутревожно и шепотом сказала тетя Клава. - Хотя... Большой уже... Пора... Вон ты...
- Я вечером зайду... Может он будет дома, - сильно покраснев, перебил ОН ее, на ходу натягивая на себя рубаху и направляясь к выходу. - Хорошо?
- Хорошо,- ровно согласилась тетя Клава. - Приходи. Может и застанешь его.
... Начинался октябрь и до ухода в армию оставалось чуть больше двадцати дней. Все эти дни ОН приходил вечерами "к Толяну", которого в это время никогда не оказывалось дома. Но зато тетя Клава уже лежала в постели, и в комнате царил полумрак. ОН молча снимал с себя все, что на нем было, молча забирался к ней в постель... Уходил засветло. Вопросов, где же его друг, больше не задавал. Так и ушел в армию, не повидав того...
Только к концу первого года службы получил от Рыжего коротенькое письмецо и любительскую фотографию, на которой тот развязно стоял с сигареткой в углу рта, опершись локтем на какого-то солдатика. Оба были в панамах набекрень, оба - нахально глядящие в подвернувшийся, видимо по случаю, объектив. На обороте стояла дата и короткая надпись: "г. Ош. Привет от собутыльника!"
- Негодяй! - зло подумал ОН тогда о друге. - Не мог трезвым сфотографироваться!
Это фото ОН вспомнил тогда, когда уже демобилизовавшись и учась в ВУЗе, жил в общежитии: мать к тому времени сбежала от нового мужа к сестре в Баку. Из-за истории с тетей Клавой ОН после армии больше домой к Рыжему не заходил, виделись они редко и урывками, и их детская дружба сошла постепенно на нет. Рыжий работал на заводе и, как оказалось, каждый выход за проходную в конце смены отмечал с дружками.
- Не могу уже без этого, - искренне жаловался он.
- Женись, - советовал тому ОН. - Жена тебя быстро заставит с этим расстаться.
- Не знаю, - неопределенно отвечал Рыжий.
- Мать-то как? - интересовался ОН
- Да прибаливать что-то стала часто. Теперь уже на троллейбусе работает. Жаль, что одна. Не хочет никаких мужиков видеть. Ведь не старая совсем еще.
- Привет от меня передавай, - заканчивал ОН разговор. - Может как-нибудь зайду...
Последний раз они с Толяном виделись, когда ОН был уже на третьем курсе. Оказалось, что тот все-таки женился, у него родился мальчик, которому уже почти годик. Живет у жены. Тетя Клава осталась одна в своем домике. А спустя полгода умерла. Как-то все произошло слишком быстро: пришла с работы, сильно болела голова, позвала соседку, чтобы та вызвала "Скорую". Пока добежали до телефона-автомата (один не работает, другой сломан. Оббегали почти все Вистерничены) - все. Инсульт. Теперь вот Толян продает их хатенку.
Толян пришел на эту встречу порядком випивши. ОН всегда это с трудом переносил, но вида не подал и искренне сочувствовал горю бывшего друга юности. Но все же не сдержался и мягко посоветовал тому все же бросить пить . Семья ведь уже как-никак имеется. Но всегда спокойный Рыжий вдруг ни с того ни с сего рассвирепел и, чего с ним никогда прежде не случалось, быстро вытянул вперед правую руку, пытаясь схватить за горло своего "бывшего собутыльника", как он написал когда-то на обороте своей армейской фотографии. А ОН еще перед уходом в армию был уже вице-чемпионом города по боксу и поэтому автоматически отреагировал на неожиданный выпад Рыжего: нырнул под его вытянутую руку, "сделал" двойку по корпусу, вышел слева от него из-под руки и нанес тому сильный боковой удар левой в челюсть и снизу правой в подбородок. Рыжий оказался "на полу" и, ничего не понимая, "блымал" своими белесыми глазками.
- Ты что! Бешеный! - наконец немного очухавшись, поднимаясь почти промычал он. - Ты что?
Это была их последняя встреча...
Спустя месяца два, дежурная в общежитии вызвала ЕГО в вестибюль: ЕГО спрашивала какая-то молодая женщина. ОН спустился со своего второго этажа, где была ЕГО комната, и действительно увидел в вестибюле маленькую смуглую молодую женщину, державшую на руках белобрысого тихого мальчугана. Вылитого Рыжего! ОН догадался, что это - жена Толяна и, поздоровавшись, удивленно спросил, что ее сюда привело.
- Толик пропал, - расплакалась женщина. Исчез и нету его. Может, вы знаете, где он может быть?
- Исчез? Как? При каких обстоятельствах?
- Продал свою хатку, будь она неладна, и уехал к своему дяде в Закарпатье, в Мукачево. Временно. Чтобы найти там работу и купить что-нибудь из жилья. Я жду-пожду от него вестей, жду-пожду, а ничего нет. Дала туда телеграмму, а его дядя мне отвечает, что ничего о нем не знает. Даже не знал, что его сестра Клава умерла. Вот такие у нас дела. Может, Вы знаете, куда он мог податься? - повторила она с надеждой в глазах свой вопрос.
- Увы,- ответил ОН тогда, - ума не приложу. А вы в милицию заявляли?
- Да что вы нашу милицию не знаете? Смеются. Говорят, надо еще подождать. Объявится. Загулял, мол, у какой-нибудь бабы. Мол, пока та из него все денежки не вытянет, он не объявится. Паразиты! Но я их все же заставила взять от меня заявление. Обещали объявить всесоюзный розыск. Да я что-то мало в это верю. Хоть бы живой был. Ну, как он мог сбежать от маленького сыночка? Как? - она не успевала утирать непроизвольно катящиеся по щекам слезы. Мальчишка, глядя на мать, начал тереть глазки ручонками и заревел во всю мощь своего отработанного детского плача...
... И вот жизнь прошла. ОН уже несколько лет - на пенсии. Живут с женой одни. Дети поразъехались кто куда. Выживать в нынешних обстоятельствах. ЕГО мать так и прожила остаток жизни в Баку, больше не выйдя замуж. Уже девять лет, как ее нет на этом свете. И все эти девять долгих лет ОН не смог ни разу посетить ее могилу. Даже не знает места, где она похоронена. Все эти перестройки, суверенитеты, рынки, войны разорили вконец на старости лет ЕГО семью, не позволив попасть на похороны даже собственной матери.
И вот, наконец, неимоверными усилиями кое-какие собранные гроши дали ЕМУ возможность прилететь в Баку и увидеть место ее последнего пристанища. Узнав место захоронения у кладбищенской администрации и купив небольшой букетик алых тюльпанов там же на месте, ОН направляется к ее могиле. Внимательно смотрит на надгробья, на любые надписи, где бы они ни попадались. Да, кажется, вон та. Вон та, рядом с которой (почему?) стоит высокий худой старик со спутанной седой шевелюрой. Чуть поотдаль играет на скрипке заунывную восточную мелодию, видимо нанятый, такой же седой и очень темнокожий музыкант. Оба старика - в строгом одеянии. В руках у высокого - ярко-ярко алые розы. Старик молча смотрит в изголовье могилы, которое венчает небольшой, серого камня, скромный обелиск с фамилией ЕГО матери. Из глаз старика тихо текут слезы. ОН недоуменно обходит старика со стороны спины и тихо подходит к обелиску, чтобы видеть того в лицо. Старик в своем бесконечном горе не замечает ЕГО.
Рыжий! - вдруг почти в ужасе вскрикивает ОН, с трудом узнав знакомое и почти забытое лицо. - Толян! Неужели?
Старик крупно вздрагивает, розы падают из его задрожавших рук прямо ему под ноги. Видно, что он сразу узнает своего друга юности. Губы его трясутся, а из приоткрывшихся уст доносится что-то похожее на мычанье. "Черный" музыкант продолжает играть...
... Потом они вдвоем сидели под старыми кривыми алычами в чайхане неподалеку от кладбища.
-- Я ее любил, - беспрерывно плакал Рыжий. - Безумно. Всегда. И она меня. Я тогда из Кишинева к ней сбежал. У меня с тех пор другая фамилия: здесь это было несложно сделать. Но мы все эти годы страх, как тебя боялись. Ты же - бешеный...
-- Нет, - перебил Рыжего ОН, глядя в плавящееся над ними и безразличное ко всему происходящему небо, - нет. Мы оба - бешеные.
06.06.2002 г. Кишинев[Author ID1: at Sun Mar 13 09:48:00 2005 ]
Всё проходит...
Первое сентября. Ясное, ещё по-летнему жаркое солнечное утро. Стадион колледжа, на котором выстроилось торжественное каре из нарядных студентов и студенток. Стоят группами. Только что поступившие - с родителями, бабушками-дедушками. Ксюша пришла со своим дедушкой. Она совсем недавно приехала из России по просьбе своей мамы приглядеть за стариками. Поступила на первый курс колледжа. В эту минуту она удивлённо глядит своими большими карими глазами то на своего дедушку, то в центр каре, где выступает руководство и общественность колледжа. Идёт торжественная линейка. Ксюша ничего не понимает, о чём говорят приветливые выступающие, и постоянно теребит за руку дедушку:
- Деда, о чём они говорят?
- Как обычно: поздравляют всех вас с началом учебного года, желают вам всех благ, чтобы вы хорошо учились, слушались преподавателей, своих родителей. Ну и всё такое прочее...
- А что это всё время произносят "Штефан Чел Маре", "Штефан Чел Маре"? Что это?
- А это у всех вас будет первый урок, посвящённый господарю Молдавии Штефану Великому, который умер 500 лет назад.
- 500 лет? Ничего себе! Это будет Ленинский урок? Как раньше было? Бабушка мне рассказывала...
- Что-то вроде этого, - кривится дедушка. - Во власти ведь те же люди, которые и проводили такие уроки. Только героя сменили. Они иначе и не могут...
- А по-русски здесь хоть два слова скажут для нас?
- Должны бы, - неуверенно отвечает дедушка. - Хотя бы для проформы должны бы.
- Что-то не чувствуется, - сомневается Ксюша.
- Потерпи, - урезонивает её дедушка, - потерпи. Их же большинство тут, вот они и говорят на своём языке.
- А мы что - не люди? - начинает горячиться Ксюша, - мы - не люди?
- Ты приехала в другую страну, миленькая! Тут свой язык! Хотя, конечно, могли бы хоть два слова, для приличия, сказать и по-русски. Славян-то здесь почти половина населения! 40 процентов!
- Вот-вот! - продолжает горячиться Ксюша. А я что говорю?
- Ну, вот ты, когда выучишься, - улыбается дедушка, - даст Бог, станешь директором колледжа, вот тогда и выступишь на двух языках. А может и на трёх...
- Да в жизни никогда этого не будет, деда! - Забыв, где она находится, воскликнула Ксюша. - Никогда!
- Тише, тише, пожалйста! - осадил её дедушка. - Успокойся!
- Меня уже девочки просветили, - перейдя на злой шопот, задышала в ухо дедушке взволнованная Ксюша. - У вас тут, если ты - не молдаван, то будь ты хоть семи пядей во лбу и знай хоть двадцать их языков, тебя дальше порога никто из них не пустит!
- Ну, ты и шустрая! - искренне удивился дедушка. - Думаю, так будет не всегда. Это противоестественно.
- А как они кричат здесь о равноправии! - продолжала шептать Ксюша. - Вон, например, в Тирасполе! Дак там - три государственных языка! А у вас тут с одним проходу не дают! Везде на всех углах кричат, что тут - демократия, а у них, мол, в Тирасполе, полный произвол! Ничего себе штучки! - Ксюша всё это выговаривала дедушке, словно он был виноват во всём происходящем.
- Да успокойся ты, золотко, - притормозил её дедушка, - и не сильно-то дакай. Тут так не говорят. А где ты успела так подковаться всего за один месяц? Успокойся! Всё обойдётся! Ты же станешь учиться в русской группе! Выучишь язык постепенно. Кстати, язык не самый плохой. Даже очень симпатичный язык. Всё само собой станет на свои места...
...Торжественная линейка закончилась без единого русского слова. Ксюша с группой пошла в учебный класс, а дедушка потихоньку отправился домой. Что-то ему нездоровилось сегодня. Дома дедушка сел в кресло отдохнуть и включил по привычке телевизор на местный канал. Передавали выдержки из речи Президента. "Мы пришли к выводу, - говорилось уверенно с экрана, - что все национальные меньшинства, проживающие в нашей стране, являются государственнообразу-ющими..."
- Как хорошо быть генералом! - с грустью подумал дедушка. - Его бы - да на сегодняшнюю линейку!
Дедушка вдруг вспомнил далёкий 1944-й, как приезжал к ним в посёлок с фронта его отец, как на того налетел бабушкин петух Серьга, которому бабушка потом всё-таки скрутила его буйную голову, вспомнил, как он, Тимка, тревожно слушал вылетающий из "тарелки" марш "Прощание славянки", как отец воровито ушёл тогда от них с каким-то газетным свёртком подмышкой, чтобы больше никогда-никогда не вернуться... У дедушки на глаза навернулись слёзы... Сквозь пелену слёз он увидел своих погибших от немецкой "растяжки" друзей Кольку и Витька, орущую резаным голосом по своей грядке лука жадную тётку Жилиху, маму Павлика Довганя, только что вынутую пареньком-милиционером из петли, свою бабушку, насильно отправленную матерью в приют и его, маленького Тимки, неизбывное горе... Дедушка расплакался. Он плакал и плакал, благо дома он был один и никто не мог наблюдать его сегодняшнюю слабость. Вспомнил он разбитную тётю Клаву. Потом в памяти промелькнула рыжая ленинградская блокадница в стоптаных босоножках и соломенной шляпе, распевающая перед перепуганными пассажирами на готовом вот-вот потонуть в бушующих морских пучинах маленьком прогулочном катерке весёлые песни. Дедушка мягко улыбнулся сквозь катящиеся по щекам слёзы: "Вот это была настоящая женщина! Не какая-нибудь Жилиха!". Вспомнил все свои работы и постоянные мытарства среди высокого начальства. "Никому ничего никогда не было нужно, кроме своей бесконечной и извращённой корысти! Что за[Author ID1: at Sun Mar 13 09:53:00 2005 ]Удивительные [Author ID1: at Sun Mar 13 09:53:00 2005 ] люди! А сегодня? Что творится сегодня?!"
За все эти длинные прошедшие годы он в жизни так ничего толком и не понял... "Ничего, - подумал, успокаиваясь, дедушка, - ничего. Всё проходит... Пройдёт и это..."
04.09.20[Author ID1: at Sun Mar 13 09:55:00 2005 ]04.[Author ID1: at Sun Mar 13 09:55:00 2005 ] г. Кишинёв
Бремя судеб наших
Последняя распутица
Иоанна собиралась молча: спешила. Всю эту тяжелую, почти бессонную ночь за окнами бушевало ненастье. Порывы ветра достигали такой силы, что, казалось, вот-вот сорвет крышу и звонко лопнут изнемогшие от напора непогоды тонкие стекла беспомощно глядящих в беснующуюся темноту некогда величественных, а ныне сильно постаревших и облупившихся окон. Иногда ветер внезапно стихал, и комната наполнялась ровным шумом: кто-то будто из гигантской космической лейки поливал все сущее на земле. Под утро Иоанну все-таки сморило и она проспала назначенное ею же себе время подъема. Да и бездорожье, всегда наступавшее в этих местах даже после небольшого дождя, грозило опозданием к поезду, до которого надо было добираться в город на чем придется. Ее торопливые сборы чем-то походили на воровство, и она чувствовала это, как чувствуют подступающую тошноту, отчего она резче заталкивала в огромный черный чемодан, купленный здесь же за границей и с нови пахнущий кожей, разные тряпки и плотнее сжимала и без того совсем сухие губы.
Сегодня она боялась всего: и вязкой осенней распутицы, которая может ее здесь задержать, и, как нарыв, болезненной тишины, хрупко висевшей над самой ее головой, отчего она, будто страшась задеть эту хрупкость, двигалась осторожно, боком и согнувшись. Но больше всего она боялась каких-то по-детски открытых растерянных глаз отца, неудобно присевшего тут же на старой, еще довоенной железной кровати. Если верить соседке, то она, Иоанна, родилась на этой самой кровати, хотя, когда перед отъездом из дома сюда, к отцу, Иоанна спросила об этом у матери, пришедшей к ней в комнату пожелать ей доброй ночи, мать в ответ только ласково провела своей сморщенной теплой ладонью по ее уже побитым кое-где ранней проседью, но еще довольно густым волосам, чуть приложилась губами к самому уголку ее вопросительно глядящего, такого же черного, как и волосы, глаза и, ничего не ответив, не обернувшись, медленно вышла из комнаты и легонько прикрыла за собой тоненько пискнувшую стеклянную дверь.
В комнате было зябко и неодобрительно. То ли от осеннего сырого ветра, пытавшегося сорвать с одиноко стоявшего во дворе перед самым окном огромного ореха последний, запутавшийся в старых, скрюченных годами ветвях, испуганный жухлый лист, то ли от торопливого молчания ее, Иоанны, то ли от горьких дум отца, которому, как и тогда, тридцать пять лет назад, наверное не хотелось по-мужски скрывать навалившуюся на него боль, неумолимыми обручами охватившую его и сжимавшую до прерывания дыхания, а совсем по-бабьи, даже более того - по-собачьи заскулить, завыть: именно в такую же осеннюю распутицу тогда также торопилась к поезду ее, Иоанны, мать, чтобы больше никогда не переступить хозяйкой порог этого дома, а она, трехлетняя, совсем-совсем еще несмышленное существо, своим маленьким сердечком чувствовала, что предстоит разлука навсегда, что ей больше никогда-никогда не обнять своего татикэ за крепкую загорелую родную шею, и потому она не хотела одеваться и с громким плачем вырывалась из рук матери, просясь к отцу "на ручки".
Судьбе было угодно распорядиться так, чтобы мать с ней, маленькой Иоанной, сразу же после войны уехала отсюда в Кишинев к больной бабушке, а отец, которому было жаль бросать большой и крепкий дом, дом, больше похожий на барский, чем на простой крестьянский, отец, которому было жаль неизвестно кому оставлять все нажитое, наотрез отказался ехать и остался один здесь, под Бухарестом, надеясь в глубине души, что они с матерью в скором времени вернутся: ведь там, в России, был голод.
Первое время мать почти каждую неделю писала отцу, уговаривала, умоляла приехать к ним в Кишинев, где у бабушки был небольшой домик. Как нибудь устроились бы. Только бы вместе. Но отец упрямо стоял на своем: боясь потерять родину и имущество, он к тому же боялся красных больше, чем разлуки с семьей. Хотя к этому времени и его родина начинала перекрашиваться в послевоенный красный цвет. Мать Иоанны металась меж двух огней, но не решалась оставить больную бабушку, а та, будучи по национальности болгаркой, уроженкой Бессарабии, об отъезде за границу и слышать не хотела.
- Что за нелепость! - Искренне возмущалась бабушка, когда мать осторожно заводила разговор об отце, о "возвращении", как она любила по-библейски выражаться, а глаза ее при этом глядели, не мигая, отрешенно и куда-то далеко-далеко. - Что за нелепость, - повторяла бабушка, - ехать в чужую страну! Пусть твой куркуль сам едет к семье! Пиши ему письма почаще! - повелительно заканчивала она и отворачивалась, давая понять, что больше затрагивать эту тему - совершенно пустое дело.
Мать, подавленная, виноватая, потерянная, просто уничтоженная, тоже поворачивалась спиной к бабушке, подходила к небольшому зарешеченному толстыми металлическими прутьями оконцу, которое выходило на узкую кривую, в любое время года всегда грязную и разбитую улочку, по другую сторону которой начинался заброшенный пустырь, бралась обеими руками за шершавую решетку и приникала пылающим лицом к холодному спокойствию металла. Долго стояла непокаянно-неподвижно, не произнося ни звука. Только пальцы, сжимавшие крепкую, посаженную на века решетку, белели от напряжения, да на узком, местами почерневшем по краям от постоянной сырости подоконнике, посередине застеленном пожелтевшей газетой, оставались огромные разводы от падавших с высоты горячих крупных слез. В такие минуты Иоанна боялась матери, и ее, Иоанны, нежное маленькое белое умилительное личико искривляла гримаса страха, отчаяния и безысходности. Личико темнело, супилось, словно море в непогоду, рябило невесть откуда появляющимися старческими морщинами и, в конце концов, из темных, как спелые сливы, глаз выкатывались родниковой воды прозрачные слезинки.
Граница была прочно закрыта для таких, как Иоанна и её мать, поэтому для общения с отцом оставалась только переписка. На такую переписку с заграницей косо смотрели не только власти, но и соседи со знакомыми. Поэтому всякий раз отправляя письмо отцу, мать чувствовала себя государственной преступницей, шпионкой, пособницей иностранной разведки. Она сильно нервничала и после каждого своего похода на почту громко выговаривала тяжёлые жгучие обиды бабушке. Бабушка в ответ только молча пожимала плечами. В конце концов переписка с отцом истощилась, иссякла, как иссякает мелководная речушка в томимой многолетней стойкой жаждой истрескавшейся земле. Не желавшая своей детской душой этому верить Иоанна, еще многие-многие дни часто и подолгу задумчиво стояла у старого серого фанерного ящика для писем, косо прибитого на редкой, в несколько горбатых досок, калитке. Мать об отце ни разу не вспоминала и на в первое время частые вопросы простодушной дочери о нем, всякий раз раздраженно кричала:
- Война! Война, проклятая! У нее пойди спроси! А про другое тебе ещё рано знать!
Иоанна ничего не понимала и, надувшись, обиженно замолкала.
Солнышко поднималось и садилось, поднималось и садилось. Детские забавы Иоанны сменились школьными заботами, бабушка давно поправилась и понемногу работала на каких-то курсах, мать приходила домой с фабрики невеселая, усталая, отправляла наспех что-либо в рот и сразу бросалась доделывать разные домашние дела, которым конца краю никогда не было видно. До Иоанны очередь доходила только перед самым сном. Об отце все как будто забыли. И вдруг пришло письмо. Иоанна училась уже в девятом классе. Возвращаясь днем из школы, она привычно толкнула ногой калитку и тут же заметила, как что-то белое выпало из ящика, ставшего за долгие годы висения на дворе совсем дырявым. На черной, влажной от сильного ночного дождя земле белел прямоугольный конверт. Письма к ним давным-давно уже ниоткуда не приходили, поэтому Иоанна сперва решила, что почтальон ошибся. Она нехотя нагнулась за письмом и, неожиданно увидев на конверте строки из латинских букв, тут же задержала руку, протянутую было к конверту. Немного напрягшись, прочитала подпись: Неферичит Ион. Письмо было от отца...
Впервые на ее сознательной памяти она невольно стала свидетелем, как мать, словно очнувшаяся глухой сонной ночью птица, привязанная хозяйкой к насесту, который уже лизало голубовато-желтое пламя, в яростном отчаянии заметалась, забилась в лихорадочной суете. Сразу вдруг осунувшаяся и вся какая-то почерневшая от налетевшей на нее стремительным безжалостным коршуном нежданной беды, чувствуя себя бесконечно виноватой перед своей семьей, так глупо разрушенной по ее женской неосмотрительности, неразумию, нерешительности и даже легкомыслию, осколки которой, открытые всякому ненастью, ржавели по обе стороны государственной границы, мать днями бегала по инстанциям и хлопотала, хлопотала о разрешении на выезд к больному отцу им обеим с Иоанной. Бабушка, прежде всегда такая разговорчивая и ласковая, словно окунулась в ледяную прорубь: вся остыла, съежилась, притихла, и долгими сырыми вечерами все сидела и сидела в теплом углу комнаты у такой же старой, как и она сама, печки. Что-то, вроде, вязала на спицах, а больше пусто глядела в пространство. Мать и Иоанна в эти молчаливые тягостные вечера тоже думали каждая о своем. Стояла ненастная поздняя невеселая осень...
Больше всего Иоанне запомнилось, как они с матерью подъезжали к дому отца на попутной жесткой скрипящей, с натугой вытягиваемой небольшой гнедой лошаденкой из глубоких деревенских колдобин телеге. Мать постоянно поправляла то и дело сбивавшийся на глаза серый пуховый платок и, как только небритый, будто невыспавшийся, с безразличными полузакрытыми глазами и длинными, как у женщины, черными ресницами, худющий, в стеганной телогрейке и серой, примятой сверху и надвинутой на самые глаза кушме средних лет возница приостановил у старого забора свою усталую и тяжело раздувавшую худые бока лошаденку, мать порывисто вскочила со скамьи, стараясь заглянуть за забор. Что с ней происходило в этот момент, Иоанна не успела заметить: она сама внезапно почувствовала сильные-сильные толчки в груди, такие, что дыхание вот-вот должно было остановиться. Что-то железное, жестокое, неумолимое начало сжимать, сжимать, сжимать у висков, у затылка голову, по всему телу пошел противный озноб и выступил холодный липкий пот. Чтобы как-то себя унять, Иоанна первой начала слезать с уже совсем остановившейся повозки. И в этот момент вздрогнула от дикого вопля мужика:
- Ты что, совсем очумела? Ненормальная! Кошка!
Мать с трудом разжала механически вцепившиеся в шею возницы побелевшие пальцы, одной ногой наступила на высокий борт телеги, быстро, не глядя, спрыгнула прямо в самую грязь, сильно забрызгав не успевшую отойти в сторону Иоанну и, забыв про все на свете, махнула мимо равнодушно стоявшей уставшей лошаденки к широким деревянным воротам, обильно украшенным ажурной металлической вязью, но сильно побитым временем. Иоанна, плохо понимая все происходящее и еще не придя в себя, тут же рванула вслед за матерью...
Двор был большой. Точнее - огромный. Двор некогда богатого белого камня дома, дома, даже теперь еще не потерявшего своей былой солидности, высокого, крепкого и просторного. Их с матерью и бабушкой кривобокая, с низенькими, почти вросшими в землю оконцами мазанка, опоясанная полуразвалившейся рыжей глиняной завалинкой, всегда сильно протекающая даже в небольшие дожди... Да... Иоанна даже на миг растерялась и с удивлением взрослого рассудительного человека посмотрела на свою мать. Будто впервые ее увидела. Да... Мать же, не останавливаясь, держа в одной руке подол мешавшего ей бежать платья, уже взбиралась на высокое крыльцо, на которое выходила широкая парадная дверь.
Отца они нашли в темноватой небольшой и давно непроветриваемой и потому с тяжелым застоявшимся запахом комнатенке рядом с открытой настежь дверью в такую же запущенную и холодную кухню. Запах, казалось, въелся во все, что здесь покоилось: даже в толстый слой серой пыли, грязью оставшейся у Иоанны на руке, которой она толкнула входную дверь, чтобы ту прикрыть. Мать непослушной рукой нащупала выключатель и включила свет. С широкой, укрытой огромным, в золотую крапинку, красным стеганым одеялом кровати со свисающей до самого пола целый век не стиранной мятой простыней и двумя подушками с цветными и несвежими наволочками, чуть приподнявшись, как с того света, на них глядел изможденный тяжелой болезнью и долгим одиночеством мужчина с наполовину седой бородой, давно не знавшей бритвы и переходившей у висков в спутанные черносеребристые волосы. На стоявшем у его изголовья простом и ничем непокрытом табурете, громоздились разные склянки с лекарствами, вперемежку с остатками еды белели разные таблетки, а на полу у табурета мирно соседствовали красный с широким прямым носом пузатый чайник и зеленый вместительный ночной горшок.
По мере того, как медленно проходили секунды, лицо больного все больше бледнело, доходя до мертвенной желтизны, какие-то внутренние подспудные и дремавшие до этого мгновения могущественные силы пробудились, зашевелились, задвигались, торопясь поскорее выйти наружу, на белый свет и в своем диком необузданном стремлении обогнать одна другую, начали корежить застывшую было желтую маску, заставляя сочиться из удивленных темных и широко открытых глаз горькие слезы никогда не проходившей жгучей обиды.
- Вот...я...один...никого, - пытался что-то сказать отец. Иоанна и мать, как вкопанные, застыли у двери. Плакали одними глазами.
Пробыли они с матерью у отца около месяца. За это время отец почти поправился. Болезнь его отпустила, он начал понемногу ходить по дому, все еще немного бледный, слабый, но уже повеселевший, уверенный. Выходил во двор и пытался что-либо делать по хозяйству.
Мать привела в порядок все комнаты огромного дома. Под ее легкой женской рукой старый и почти мертвый дом ожил, наполнился радостью, помолодел. И Иоанна как будто заново родилась. Научилась легко произносить забытое слово "папа", каждое мгновение физически ощущать, что у нее тоже есть отец, что вот он тут, рядом, что только стоит захотеть и можно подойти к нему, взять его за руку, заглянуть во все понимающие, все прощающие, такие свои родные глаза и найти в них любовь и успокоение. Даже походка у нее изменилась: стала тверже, уверенней, прямей.
Все эти годы отец жил один. Иоанна никак не могла понять, как он сам управлялся по хозяйству. Она постоянно думала, размышляла об этом, отчего острая, почти осязаемая недетская жалость к нему засела у нее где-то под самым сердцем и колола, колола, колола.
- Как ты живешь один? - не выдержала как-то Иоанна, забравшись, как маленькая, к отцу на колени. - Как? - отец ничего не ответил. Только нежно погладил ее по голове загрубевшей широкой ладонью да глаза его вдруг повлажнели, что заставило его отвернуться от нее.
Иоанна занимала светлую большую комнату, смежную той, в которой жил сейчас отец. И, если перед сном ей случалось иногда забежать на кухню в поисках какой-нибудь сухой корочки, она обнаруживала, что в комнате отца не спят: высокий певучий голос матери вплетался тонкой серебряной нитью в глухой низкий медный бас отца. Все это было для нее ново, непривычно, вызывало радостное и тревожное волнение. Она долго не могла после этого уснуть, молча лежала, думая об отце и матери, о себе, глядела в ночную темь своими черными, как ночь, глазами.
Настало время им уезжать. Отец с матерью в комнате Иоанны молча собирали их нехитрый чемоданишко. Иоанна решила напоследок побродить по двору, несмотря на моросящий нудный холодный с ветром дождь. С плохо скрываемым страхом она ожидала мучительных минут расставания. Она не желала этого. За дни, что прожили они у отца, как-то само собой сложилось, что вопрос их троих дальнейшей жизни не затрагивался. К нему даже боялись прикоснуться. Все шло, как шло. И готовились к отъезду так, будто ничего не происходило.
Так они с матерью и уехали. Иоанна до сих пор ясно помнит, словно это было не два десятка лет назад, а только вчера: тоскливо скрипели, скрипели колеса увозившей их от дома отца телеги, больно чавкала под копытами понурой лошаденки черная жидкая жирная грязь, да слабый отец, еще нетвердо опирающийся на подобранную здесь же во дворе суковатую кривую палку, стоял в воротах в накинутой от дождя на голову мешковине и осторожно махал им вслед свободной рукой. То ли прощался, то ли прощал...
Прошли годы. Много. Иоанна закончила институт, стала работать в школе учителем русского языка. Замуж не вышла. Их старенькую ветхую хатенку снесли, а взамен дали небольшую двухкомнатную квартирку в новом высотном доме. В ней они и живут вместе, три одинокие женщины, без мужей и защиты, три одинокие березки на маленьком голом изолированном пятачке жизни. Бабушка совсем постарела, плохо видит и почти ничего не слышит. Мать, хотя и вышла на пенсию, продолжает работать. С поездками за границу давно стало полегче и каждый год, начиная с той памятной для нее осени, Иоанна ездит к отцу. Он живет попрежнему один. Мать больше к нему не поехала...
В этот раз, как и в первый, с матерью, Иоанна срочно приехала к отцу по его тревожному письму. Он снова тяжело и долго болел. Будучи у него еще летом, Иоанна, как и во все прошлые свои приезды, в который раз уговаривала отца продать этот на всю жизнь разлучивший их семью и потому так ненавидимый ею дом, этот символ призрачного богатства и ложного, латанного-перелатанного лакейского благополучия, чтобы, наконец, переехать к ним. Они, его семья, всегда его ждали, ждут и будут рады ему. Да и стар ведь уже, уход требуется. Но отец в ответ только тяжело и мрачно отмалчивался. А болезнь, вот она... Идет тенью рядом со старостью. Иоанна, сколько могла, находилась здесь, рядом с ним. Но срок ее пребывания за границей, увы, истекает, и у нее могут быть неприятности, особенно там, дома. А отцу никак лучше не становится. Надо было что-то предпринимать. Нельзя же вот так все бросить и уехать!
Несколько раз за последние дни Иоанна тайком от отца забиралась в дальний угол двора, выходящий к соседскому огороду, месту в это время года пустынному и глухому, и припадала в отчаянии лицом к потрескавшейся коре старого ореха, доживающего свой долгий век в раздумьях о суетности всего земного. Она обнимала стынущими на холодном сыром ветру руками его широкий надежный ствол и давала, наконец, волю через силу сдерживаемым в присутствии отца и постоянно угнетавшим ее рыданиям. Вдоволь наревевшись, она затем надолго запиралась в своей комнате, приводила себя в порядок и выходила к отцу, стараясь избежать встречи с его всепонимающими глазами.
Накануне своего отъезда Иоанна обошла поочередно всех соседей, прося каждого приглядеть за больным отцом. От денег, предложенных ею за уход за её отцом, все, как один, наотрез отказались. Даже корил ее каждый по-своему за такое. Но каждый согласился помочь. Несмотря на это, Иоанна все же чувствовала себя преступницей. Да еще эти глаза отца...
Теперь вот она будто по-воровски торопливо собирается, а он сидит на старой, еще довоенной, железной кровати и молча наблюдает, не в силах что-либо изменить.
- Ты не очень переживай, дочка, - угадывая ее мысли, вдруг произнес он, когда она уже заканчивала свои сборы. - Езжай с Богом. Как нибудь все обойдется. Летом только постарайся приехать. И маму с собой привези. Забывать я ее начал. Плохо... О-хо-хо-хо! Такая вот она жизнь! Кто думал, что вот так оно все обернется! А соседи у меня хорошие. Досмотрят. Ты не беспокойся. - он ненадолго закашлялся и осторожно прилег. - Погода вот... Все из-за нее... - Иоанна не выдержала и разревелась. - Не надо, дочка, не надо. Ты лучше собирайся, а то опоздаешь. И так вон как задержалась. А поезд, он ждать не станет.
В дверь постучали. Вошел сосед, который во все ее приезды отвозил ее на своей телеге обратно в город к поезду. Сосед был в сером брезентовом плаще с капюшоном и в кирзовых, наваксенных по такому случаю, сапогах.
- Вот... грязь, - извиняющимся тоном произнес он и в нерешительности остановился у порога. - Значит, это... пора, значит, ехать... Прощайтесь, Ион.
- Да, да, да! - вдруг засуетилась, забеспокоилась Иоанна, - сейчас, сейчас! Да вы присядьте, присядьте пока, пожалуйста! - она мигом кинулась к вешалке, кое-как схватила свое пальто и долго не могла попасть руками в рукава: руки ее не слушались. Сосед совсем смутился и принялся поворачивать к двери:
- Прощайтесь, я подожду у повозки. - И шурша своим широким плащем, скрипнув дверью, осторожно вышел. Отец молча лежал, глядя мимо Иоанны куда-то в пространство. Наконец, одевшись, она с трудом выдохнула:
- Ну...
Обутая в изящные черно-блестящие на высокой платформе сапожки, осторожно ступая по скрипучим прогибающимся и давно некрашенным половицам, Иоанна подошла к кровати, на которой лежал отец, медленно опустилась на колени и положила свою голову ему на грудь. Затихла. Отец тоже молчал и тихонько поглаживал ее по густым, с ранней сединой, рассыпавшимся волосам.
- Потерпи, - прошептала Иоанна, - потерпи немножечко. Мама приедет. Я знаю, приедет. И я. Мы будем вместе. Будем...
В Кишиневе тоже стояло ненастье. Иоанну лихорадило. Выйдя из вагона, она не направилась, как обычно, искать такси, а стояла под дождем тут же на перроне и смотрела, смотрела на поезд, в котором только что приехала, не в силах вот так сразу расстаться со всем тем, что осталось по ту сторону границы, по другую сторону и ее несложившейся жизни. Поезд скоро тронулся и застучали мерно колеса, мерно застучали мимо одиноко стоявшей немолодой женщины...
Дверь квартиры Иоанна открыла своим ключом. Устало поставила в прихожей чемодан, подошла к вешалке с большим прямоуголным зеркалом и, начав снимать с себя пальто, непроизвольно оглянулась: на пороге комнаты стояла мать. Нет, не стояла. Она медленно валилась набок. Падала. Ее редкие седые волосы веером рассыпАлись по дверному косяку. Иоанна рывком кинулась к ней, подхватывая ее на руки.
- Доченька, - слабо шептала мать, - доченька! Папы... нету... Телеграмма...
06.12.1981 г. Кишинев
Бутерброд с чёрной икрой
1.
Неожиданный длинный продолжительный и резкий звонок в дверь заставил Николая вздрогнуть. Была пятница двадцатого, по телевизору заканчивались новости из Останкино и в окно уже заглядывала темная мартовская ночь. Дома никого в это время не ожидалось.
- Рита, наверно, чего-то хочет, - привычно подумал Николай о соседке по лестничной площадке и, повернувшись к сидевшей рядом жене, обнаружил какое-то беспокойство в ее глазах.
- Спроси, пожалуйста, кто там, а я пока досмотрю спорт, - произнес он чуть-чуть раздраженно: не любил, когда жена по любому поводу пугалась. - Да смотри там не судачь с ней в потемках да на холоде.
- С кем это "не судачь"? - удивленно выставилась на него жена и затем направилась к входной двери.
- С Ритой, с кем же еще, - не поворачиваясь и не отрываясь от телевизора, ответил Николай.
Снова раздался длинный резкий звонок.
- Да иду же я, иду! - громко крикнула в дверь жена. - Иду!
Николай слышал, как она выдернула цепочку, щелкнула замком и открыла первую, "государственную" дверь, дверь из плохо прессованной бумаги с небольшой примесью дерева - продукт всеобщей экономии эпохи недавнего прошлого и источник дополнительных премий проектировщиков этого архитектурного чуда.
-- Кто там? - громко спросила жена через вторую, железную,
дверь - другое чудо современной эпохи туманных производственных отношений и еще более утаенных производительных сил. В наши лихие времена это второе дверное чудо более надежно защищало их очаг.
-- Кто там? Не поняла!
Последовала небольшая пауза. Спорт перестали показывать и началась реклама. Николай убрал звук у телевизора до нуля и прислушался. Он знал, что через дверной глазок ничего не увидишь: площадка перед дверью давно не освещалась, т.к. лампочки крали чуть ли не с момента их установки. Во всем подъезде вплоть до их последнего, девятого, этажа царил полный мрак. Тут в комнату не вошла, а скорее почти вбежала жена. Вид у нее был более чем тревожный.
- Там... Кажется... Вовка приехал, - испуганно-неуверенно, запинаясь на каждом слове, почему-то шепотом произнесла она. - Я, Коля, боюсь. Иди-ка ты узнай.
- С чего это ты взяла? - так же шепотом, также неуверенно и тревожно спросил ее Николай, осторожно прикрывая дверь из комнаты, где они разговаривали, в прихожую, чтобы их не было слышно: "государственная" дверь была нараспашку.
- По-моему, это его голос, - прошептала жена. - Да и спросил: "Коля и Маша здесь живут?" Смотри не открывай сразу, - со страхом прошептала снова она уже почти в спину Николаю, - а то убьют! Переспроси! Я боюсь!
- Да перестань ты выть! - отмахнулся Николай и, подойдя к железной двери, громко спросил: "Кто?"
- Это я, Коля! Вова я! - услышал он знакомый хриплый голос и, не раздумывая, распахнул дверь в темноту...
На пороге стояло нечто незнакомое. В этом старом и давно небритом изможденном морщинистом существе в плоской серой кепочке на наголо стриженой седой круглой голове, в добытой, повидимому, по случаю, на какой-то заброшенной стройке свалявшейся грязной, искусственной шерсти, некогда коричневой шубейке, надетой прямо на желтую грязную летнюю майку с броской американской рекламой, в этом существе, на ногах которого красовались новые модные кожаные коричневые (в тон шубейке) сапоги и в которые были заправлены летние темнозеленые фирменные штаны, в этом жалком бомжатском существе с настолько впалыми щеками, что, казалось, они вот-вот соединятся между собой над верхней губой, на которой среди сплошного седого поля тонюсенькой стрелкой выделялись совершенно черные изящные усики, в этом существе, у которого в руках ничего не было и от которого исходил настолько омерзительный запах, что Николай невольно поперхнулся, он, Николай, с большим трудом узнал своего сводного брата Вовку. Тот глядел на застывшего в столбняке в дверях Николая большими черными круглыми собачьими глазами, глазами собаки, которую всегда много бьют, но плохо кормят, глядел, не зная, куда деть пустые руки, пытаясь что-то еще сказать и не решаясь переступить порог.
- Ну, заходи, - посторонился Николай, с плохо скрываемым отвращением беря Вовку за рукав его шубейки чуть повыше локтя, и с силой потянул того в прихожую. Жена, Маша, стояла посреди прихожей недвижимо: на нее, как и на Николая, тоже напал столбняк, поэтому Вовка чуть было не столкнулся с ней лоб в лоб.
- Заходи, удалец! - Николай отпустил рукав вовкиной шубейки и принялся поспешно закрывать дверь, а то чего доброго выйдет ненароком кто из соседей: перепугаются же насмерть!
-У меня... пенсионное есть...Я...на электричке... Денег-то нет... Никто ничего... Так сперва завезли меня аж в Днепропетровск... Никто ничего... А потом в Одессе... Вот мое пенсионное... - бормотал и копался в карманах Вовка. - Четверо суток по вокзалам... Гоняют...
- Потом! - не выдержал Николай. Он совершенно очумел не только от всего вдруг случившегося, но и от душившего его в небольшой тесной прихожей зловония. - Потом нам все перескажешь, а сейчас быстро все с себя снимай! Да поскорей же! - при этом Николай буквально сдирал с Вовки его драгоценную шубейку, а тот, оказавшись невероятно худым и слабым, не устоял и покорно повалился на бок и на спину. Маша в прихожей стояла в прежней позе, так до конца и не придя в себя.
-У-у-у, скотина! - начал звереть Николай, хватая Вовку за руку и ставя его, как куклу, на ноги, - раздевайся же! А ты что, оцепенела? - заорал он на жену. - Всю эту рвань - в лоджию, в ящик! Завтра разберемся! Быстро найди чего-нибудь из моего, а я поставлю на плиту ведро воды. Да пусти в ванной воду! Пусть хоть и чуть теплая, да все не лед, как батареи!
Маша, наконец, придя в себя от всего случившегося, сразу засуетилась, заохала, начала как-то бестолково тыкаться во все шкафы и ящики их старенькой и облезлой стенки, мгновенно забыв, где и что у нее находится. Руки у нее тряслись и плохо ей повиновались, были совсем чужими. Телевизор молчаливо показывал очередную перестрелку между двумя бандами гангстеров. Вовку в его канареечной заграничной маечке бил крупный озноб и он никак не мог снять с себя свои летние верхние штаны, из-под которых Николай разглядел еще двое: первые - воинское х/б, а нательные - из комплекта толстого нижнего белья, бывшие когда-то голубыми, времен, повидимому, Великой Отечественной, времен, когда Николай был еще малышом и кочевал с матерью по эвакуациям, а Вовки еще и в помине не было. Вовкин отец, в отличие от николаева, особиста, топил в то время немцев где-то на Балтике.
- Да перестань ты трястись, как юродивый! - не выдержал Николай. - Поскорее все снимай, а не то я тут задохнусь от твоих перестроечных запахов. На, накинь пока! - он снял с себя черную меховую безрукавку, надетую поверх двух толстых свитеров, и протянул ее Вовке. Тот, поскакивая на одной ноге, грозился вновь оказаться на полу, но все-таки сумел ухватить меховушку, но при этом встал наполовину вытянутой из штанины ногой прямо на пол в грязь от его же сапог. Тут же начал, торопясь, лихорадочно натягивать на дрожащее худющее тело еще теплую безрукавку. Николай отвернулся, чтобы не показать никому вдруг выступивших слез.
Спустя некоторое время Маша разыскала еще один старый толстый свитер Николая, нашла дочкины новенькие вельветовые брючки, зажгла на плите все четыре горелки и духовку и поставила греть полное эмалированное ведро воды. А Вовка в старых истоптанных и извлеченных по такому случаю с немалым трудом из дивана тапочках, в одних трусах, сжавшись в маленький серый комочек, присел на корточки у открытой духовки гудящей газовой плиты, стараясь поглубже засунуть свою непутевую голову в ее огнедышащее чрево.
2.
Братья, несмотря на общую мать и расхожую теорию о том, что мальчики больше походят на матерей, а девочки идут в отцов, были совершенно разными. Старший, Николай, действительно лицом и фигурой пошел в мать, которая в молодости была не только привлекательной, но и веселой, заводилой многих компаний. Лихо отбивала на вечеринках чечетку и обрывала гитарные струны, а балалайка так и плясала в ее руках. Обожатели не переводились, но на мужей невезло: кто гулял на стороне, а большинство пили. От одного из таких и родился Вовка, родился как-то не к месту и не вовремя. У матери к тому времени наступил пик озабоченности: стояло голодное послевоенное время, очередной муж запойски пил и не работал и надо было не только содержать его самого, но и уже двоих детей. К тому же, как говаривала мать, ей надо было устраивать личную жизнь, поэтому на детей времени просто не хватало и по этой причине Вовка с самых ранних пеленок был целиком брошен на Николая. Для Николая у матери всегда находился предлог, чтобы не пустить того летом в пионерлагерь: то ночью плохо спит и во сне кричит матом, то сьел все варенье, выделенное на работе одиноким матерям в виде помощи, то не углядел за молодым теленком, привязанным в комнате за быльце железной кровати и тот сжевал материнское выходное платье, тоже выданное из американской послевоенной помощи.
Прошло некоторое время, и Николай ушел служить в армию, а мать с маленьким Вовкой после этого сбежала к сестре в Баку от очередного мужа, который, по обыкновению, пил и нигде не работал,. Когда, спустя три года, Николай вернулся из армии домой, дома как такового после бегства матери уже не было. Николай поступил учиться и жил по общежитиям. Там же они с Машей, одновременно поступавшей с ним учиться, поженились.
Мать в это время начала обустраиваться на новом месте, месте, где теплое ласковое море, инжир, дыни, сладкий виноград, сладкие пьянящие речи горячих южных мужчин и... у нее появился очередной муж, который, как обычно, начал пить и нигде не работать. Правда, пил он все-таки меньше предыдущих, но не работал значительно больше.
А что Вовка? А он в это время маялся у тетки на Украине, а когда подрос, его отправили к его отцу в Ленинград. Николай хорошо помнит, как мать ему писала, что Вовке там хорошо, что он научился играть в шахматы да так, что скоро побьет самого Ботвинника. Но ничего сверхестественного не случилось. Ботвинник устоял, а Вовка нет. Вовка начал пить вместе с отцом, потом пошел воровать, потом - колония, потом - возврат в Баку, потом - шея родной матери, женитьба, двое детей. Все пришло на круги своя: пьет и не работает. Сколько ни увещевал Николай своего братца, приезжая к матери в гости в Баку, сколько ни угрожал ему и даже ни бивал иногда под горячую руку, всегда эффект был один: "Пусть дураки работают. Вон тот (показывает на мужа матери) сидит, а я чем хуже?" "Да пожалей ты мать! - ярился Николай, - она вас, двоих буйволов, не вытянет на свою пенсию!" В ответ всегда была только кривая ухмылка.
Прошло тридцать лет. Последние годы мать, чувствуя, что скоро умрет, а ее дитя останется совершенно без средств к существованию, заметалась, как загнанный зверь в клетке. Заметалась испуганно, от безысходности, от бессилия. Билась безуспешно в клетке, которую она же сама себе и построила. Но все же ей удалось какими-то немыслимыми путями где-то в инстанциях доказать, что ее чадо - не простое и не случайно всю свою жизнь дальше их кухни нигде не бывало. Вовке положили мизерную пенсию за то, что он "боится трудиться". Он совсем воспрял духом, а мать... мать умерла. Когда Николай получил телеграмму, в Азербайджане шла война, самолеты из Кишинева туда не летали, а добираться через Москву выходило тысяч в сто. Все накопленное им с Машей в сберкассе за долгие трудные годы их совместной жизни незадолго до этого в одночасье сгорело и Николай затравленно метался по квартире. Денег взаймы никто не давал. Да их ни у кого и не было, как не было ничего в пустых магазинах. Позвонил дочери, которая жила к этому времени в северной части России, убежав туда из дому вместе с мужем в слабой надежде хоть как-то прокормить себя и свое малое дитя. Слава Богу, что той каким-то чудом удалось достать 15 тысяч и переправить их сестре матери, которая из Баку бежала в Москву. Сестра обещала срочно переправить деньги на похороны по своим каналам. А Николай плакал от нагрянувшей беды, от своего полного бессилия изменить ход событий, от злости на все вокруг происходящее. Только и сделали они с Машей, что вдвоем сели за стол да за рюмкой холодной водки помянули свою отошедшую в мир иной мать, мать, которая трудно работала до последнего своего скорбного часа и не смела ни на минуту передохнуть за свои нелегкие семьдесят четыре года, давая пищу и кров своему законному наследнику Вовке и своим "пьющим", как они весело представлялись в кампаниях, мужьям.
А наследник, как только мать померла, стал звонить Николаю, что, мол, наконец-то он стал свободным и в свои сорок пять лет знает, что делать.
- Не вздумай продавать квартиру! - зная вовкины замашки, кричал в трубку Николай. - Останешься без угла!
- А мне тут нечего делать! - возмущался в ответ Вовка. - Уеду к семье в Россию! - и тут же бросал трубку. Его бывшая жена, имевшая к ее несчастью, небольшую долю армянской крови, давно сбежавшая в Россию не только от Вовки, но и от резни, устроенной армянам в Баку, ютилась с двумя детьми в маленьком захолустном городке в России в каком-то общежитии просто из милости его сердобольного коменданта.
В одной из перепалок с Вовкой Николай неожиданно узнал от него, что деньги из Москвы на похороны не поступали и что мать похоронили, сбросившись, соседи. Да и Собес кое в чем помог. Николай в слепой ярости тут же набрал московский номер...
- Понимаешь... - замялась тетка.- не успели передать. Но мы в церкви поставили свечку, - быстро поправилась она, - и молились...
"Молились"... Один бывший секретарь парторганизации за другого бывшего секретаря парторганизации... Как все сразу перевернулось! "Молились"... Жить не хотелось...
3.
И случилось то, что случилось: Вовка продал квартиру. Хорошую, двухкомнатную, кооперативную, в престижном доме почти в центре Баку. Продал за доллары, которых он, как и все м ы в те времена, никогда в жизни не видывал. Продал за бесценок, так, как подсказали ему его "корешки". И отбыл из Баку, приятно отягощенный пачками замусоленных зелененьких и манящими желаниями. Отбыл в совершенно радужном настроении "кормить семью" (он где-то раньше слышал это выражение). Отбыл к семье в Россию. Как Вовка кормил семью, Николаю в первый вечер ничего от него узнать не удалось: Вовка жадно поедал все, что Маша ставила на стол, поедал подряд и безо всякого разбора. Глаза его при этом нехорошо горели и, казалось, отодвинь от него ненароком тарелку и он тут же зарычит. Он сидел за столом вымытый и чисто выбритый, в толстом зеленом свитере Николая, поверх свитера была надета меховая безрукавка. Синие вельветовые дочкины брюки оказались даже велики, хотя дочь Николая фигурой походила больше на подростка. От Вовки сильно пахло дорогими духами, которые он сразу где-то откопал в комнате, которую ему отвели для пребывания. Эти духи давно на день рождения подарила Николаю дочь. Но Маша куда-то так их заставила, как только она это умела делать, что Николай просто о них забыл. А этот сразу нашел. Наверно, по запаху. Точнее, из-за своего сверхобоняния на подобные вещи.
- Что ты ему все подкладываешь? - пенял Маше Николай, - хватит! Помрет от переедания, не дай Бог! - и к Вовке: - Сколько же дней ты ничего не ел?
Но тот в ответ только рывками работал челюстями и не снисходил до ответа. Когда же трапеза в конце концов все же завершилась, Вовка поднял на Николая осовелые глаза и снова всем своим ничтожным обликом стал напоминать бомжа. Грязного и вонючего бомжа, который у тебя вот-вот попросит "сигаретку".
- Мне бы покурить немного, - как раз к моменту просяще-жалостливо выдавил Вовка. - Можно?
- Нельзя! - мгновенно отрезал Николай, которому словно влепили пощечину. - У нас не курят! А в темень на лестничную клетку нечего выходить: могут и убить. У нас тут всякое сейчас бывает. Так что терпи до завтра!
- Убьют? - испуганно переспросил Вовка, - тогда не буду.
Он стоял посреди кухни как-то неуверенно и было видно, что он не находит себе места.
- Сегодня от него проку никакого, - обратился к Маше Николай. - Ты ему постелила?
- Все самое свежее, - довольная ответила Маша. - Пусть ложится. - Она пошла показывать Вовке приготовленную постель. Тот молча последовал за ней.
Ночь для Николая с Машей прошла сумбурно. Они почти не спали, а когда ненадолго забывались в каком-то полубреду, на кухне в этот момент громко щелкал выключатель, отчего они тут же пробуждались, а в их глаза ударял яркий белый свет, попадавший к ним в комнату из кухни через стеклянную дверь. Вовка что-то шарашил на кухне, но сил встать и посмотреть не было и оба решили, будь что будет до утра. Утром уже разберутся. Лишь бы ничего не поджег. В общем, отдались на волю случая. Однако потом Маша все-таки встала и отправилась по своим малым делам. Ее так долго не было, что Николай начал уже беспокоиться и хотел было встать и выяснить, в чем дело, но тут он почувствовал, как она вошла, легонько стукнув дверью, и ощутил, как она, дрожа, забирается к нему в постель.
- Что это ты дрожишь? - спросил он тревожно. Тебе плохо?
- Заплохеет тут, - с досадой прошептала она в ответ, и Николай почувствовал в ее голосе неприязненные нотки.
- Что там такое?
- Пошла в туалет, села, чувствую, что крышка вся записанная. Тот идиот справляет свою нужду, как под забором. Вот и отмывалась в ванной ледяной водой. Не хотела тебя беспокоить и греть воду. А потом уже в туалете все отмывала. Надо же было его в порядок привести!
- Ну не среди ночи же, - не зная, что сказать, пробурчал Николай.
- А когда же? - тут же начала задираться Маша, - когда? - Но Николай не ответил и повернулся на другой бок.
- У Вовки в комнате все свет горит. По-моему он и не ложился, - все не замолкала Маша.
- Да черт с ним! Оставь ты его в покое! Спи! - Николай начал ворочаться. - Он - с дороги, новое место...
В этот самый момент со стороны вовкиной комнаты послышался глухой шум: где-то что-то упало или затрещало. Разобрать было невозможно. Николай, как ошпаренный, подскочил с постели и рванул в комнату, где Вовка по все правилам должен был давно спать: часы показывали три двадцать ночи. Но через дверь было видно, что в комнате горел яркий свет: видимо, были "врублены" все пять лампочек тяжелой люстры, до чего Николай за всю десятилетнюю историю этой квартиры ни разу не додумался. Когда же он все же нажал на стеклянную дверь, пытаясь войти в комнату, он почувствовал, что с внутренней стороны дверь была забаррикадирована стулом, который одним концом упирался в саму дверь, а другим - в спинку дивана, и не позволял открыть дверь.
- Ну и гусь! Такого у нас, отродясь, не было! - Николай стукнул кулаком в дверь. - Вовка! - послышался шум отодвигаемого стула, дверь понемногу стала открываться и в ее проеме возникла мятая вовкина физиономия. В комнате сильно пахло одеколоном и сигаретным дымом.
- Ты что тут бордель устраиваешь среди ночи? - взорвался Николай. - Спать никому не даешь! Я же тебя предупреждал, чтобы ты в квартире не курил! А откуда одеколон?
Вовка тут же воспроизвел круглые-круглые глаза и развел руками:
- А я и не курил. Где ты слышишь запах? - Вовка был одет и было видно, что он так и валялся в постели: в брюках и безрукавке, в мехе которой застряли пушинки от подушки, а белоснежный пододеяльник, любовно надетый Машей на стеганое одеяло, выглядел, словно его, бедного, неделю жевала корова.
- Ты что же, умник, меня за идиота принимаешь? - Николай, как был в одних трусах, так и пошел на Вовку. Вовка в одно мгновение выскочил в лоджию, дверь в которую оказалась незапертой.
- Не хватало мне среди ночи поднять на ноги весь дом, - подумал Николай. - Вот негодяй! Заходи же в дом! - после небольшой паузы мирно позвал он Вовку. Тот испуганно смотрел на Николая сквозь стекло с той стороны двери. - Заходи, а то замерзнешь там на улице!
Вовка не без опаски осторожно вошел в комнату, легонько прикрыв за собой дверь, но на замок ее не закрыл. На всякий случай.
- Я же тебя предупреждал, - снова начал Николай, - в лоджию - ни ногой! Не вздумай там курить! Ты разве не видел, сколько там всяких бумаг?
- Да не курил я, - пробурчал Вовка, пряча глаза.
- Тогда зачем ходил в лоджию?
- Я шубейку свою смотрел.
- В три часа ночи? Соскучился по ней? От нее и в лоджии невыносимая вонь!
- Я пошел посмотреть на свою шубейку, - гнул свое Вовка. - Что, нельзя?
Он опять наглел и Николай понял, что их разговор становится бесполезным.
- Все. Укладывайся спать! И нам, пожалуйста, не мешай. - Николай кивнул на стул, торчавший у двери комнаты: - и баррикады в доме не устраивай. У нас это не принято. Ты - не у Белого Дома.
- У какого дома? - Вовка, наконец, поднял вверх свои плутоватые глаза, но глядел куда-то вбок. - У какого белого?
- У московского, грамотей. Иди спать.
Все же Вовка еще раз "достал" его в эту ночь: Николай "прокололся" точь в точь, как и Маша, придя в туалет перед самым утром. Так же долго отмывался в ванной холодной водой и при этом, стиснув зубы, поминал всех богов и их ближайших родственников...
С тех пор, как уехала дочь с семьей, каждое субботнее утро было для Николая с Машей утром бесцельного валяния в постели часов до девяти-десяти, а иногда и просмотра давно набивших оскомину всегда одних и тех же серых телепередач. Но это субботнее утро обещало им обоим стать более интересным. Почти не спавши ночь, часов примерно в шесть (только-только начало рассветать) они были подняты на ноги страшным шумом на кухне: снова что-то со страшным грохотом откуда-то упало. Оба в чем были, выскочили на кухню. Там горел не только полный свет, но и все четыре горелки газовой плиты. На одной из них гремел прыгающей крышкой весь в пышных клубах белого пара их старенький немощный чайник. Вовка сидел на корточках перед настежь распахнутыми дверцами голубого шкафчика для продуктов и совершал какие-то манипуляции внутри него. Нечто белое было обильно рассыпано рядом с ним на полу. Николая с Машей он не услышал и спокойно продолжал заниматься своим делом. Они молча переглянулись.
- И что ты там потерял? - не выдержал Николай. Вовка от неожиданности вздрогнул, но тут же взял себя в руки, медленно поднялся и спокойно произнес как само собой разумеющееся:
- Я ищу сахар. Вот полка упала. - И недоуменно развел руками в доказательство всего произошедшего. Маша тут же ушла в спальню, не вымолвив ни слова.
- Ты что же, не способен дотерпеть до утра, пока тебя накормят? Я живу здесь и то не ведаю, что в этом шкафу делается, а ты-то чего вытворяешь?
- А что я такого делаю? - Вовка перешел на крик. - Я сахар ищу! Что, нельзя? Я чаю хочу! Что, нельзя? Да я сегодня же уеду! Вот вещи высохнут и уеду!
- Да ты еще их и не стирал. Вон лежат, замоченные, в ванной. - Тут Николай ткнул в его сторону пальцем: - Сначала ты нам расскажешь, как ты квартиру матери пропил, как своих детей оставил на улице, как превратился в бомжа, как от тебя бесконечно стонут все родственники в Москве, Харькове и Одессе, к которым ты периодически совершаешь незванные визиты, поедаешь последнее у этих нищих пенсионеров, тащишь из вещей, что не углядят по старости, да дружков-собутыльников на них натравливаешь, чтобы родственники щедро с тобою, сирым, делились. Чтобы тебе, горемычному, отдавали все, что накопили за всю свою жизнь, горбатясь от зари до зари, пока ты распивал сладкие чаи да жарил пышные яичницы из яиц, принесенных для тебя твоей немощной старой матерью, которая еле передвигалась на больных ногах и которую через улицы переводили под руки добрые люди. Вот только после этого, родненький, ты высушишь свои вещички и скажешь нам адью. Только после этого! - Николай резко развернулся и пошлепал босыми ногами по линолеуму к себе в комнату. Вовка тоже отбыл в свою опочивальню, предварительно погасив плиту и захватив из широкой тарелки, стоявшей на кухонном столе, пригоршню домашнего печенья, предмета всегдашней машиной гордости.
4.
После таких событий не спалось. Николай с Машей молча лежали с открытыми глазами, глядя в потолок и ничего не видя. Каждый думал об одном и том же: что же дальше-то? Что делать? Но хоть сколько-нибудь приемлемого ответа не находилось. Ясно одно: Вовка нагрянул не в гости к брату. Ясно также, что если его оставить у них, он их просто пустит по миру: ест за троих да дай ему еще на сигареты, выпивку. Одежды на нем практически никакой. Значит, одень-обуй. Да еще следи каждую минуту, чтобы чего не утащил из дому, не вынес на базар да не спустил. На это он большой мастер. В доме Николая никто не пил и не курил, жили они с Машей вдвоем сверхскромно. Маша, бывшая учительница, получала мизерную пенсию после так называемой перестройки. Зарплаты Николая едва хватало, чтобы расплатиться за квартиру да кое-как дотянуть до следующей. Да и у Николая был предпенсионный возраст, так что в ближайшем будущем им с Машей ничего хорошего не светило. А с Вовкой... Заставить Вовку идти работать было делом изначально бесперспективным. Ответа не находилось.
- Ладно, - вдруг промолвила, поднимаясь с постели, Маша, - давай вставать. Этот живоглот все равно нам спать не даст. Его кормить пора. - И начала одеваться. Николай молча встал с постели и направился в ванную. Дверь в комнату, где находился Вовка, на этот раз была приоткрыта, и Николай увидел, что тот, как был одетый, так и забрался под одеяло. Но кое-что было и новенькое: по самые брови он натянул на голову машину вязаную шапочку.
- И тут успел! - усмехнулся Николай. - Обшарил-таки шкаф.
Завтрак начался с неприятностей. Когда стол был накрыт, кликнули Вовку. Тот не замедлил сразу же явиться. И прямо с постели, в чем спал. Даже шапочку не снял. Желтокоричневое его лицо, изрезанное глубокими кривыми морщинами и чуть забеленное крупной щетиной, лоснилось после сна. От него исходил такой запах одеколона, что Маша, не выносившая резких запахов с рождения их дочери, сразу закашлялась и судорожно схватилась за грудь. Вовка, без слов и ни на кого не глядя, тут же уселся за стол и сразу полез рукой в хлебницу, разгребая на ходу все, что там было аккуратно уложено: выбирал себе по вкусу ломоть.
- Стоп, стоп, стоп! - сразу нарушил ход событий Николай. - Ну-ка, голубь ты наш, ступай-ка сначала в ванную и приведи себя в порядок. - Вовкина рука с надкусанным куском хлеба удивленно повисла в воздухе.
- Ступай, ступай! - Николай встал и взял его за руку. - Ты что, забыл, как ведут себя в подобных случаях? - Вовка молча положил ломоть перед собой, суетливо вылез из-за стола и как-то боком отправился в ванную.
- Не вздумай в шапке умываться! - крикнул ему вдогонку Николай. Маша все еще держалась за грудь, пытаясь кое-как откашляться. Глядя на это, Николай быстро вышел из-за стола и направился в вовкину комнату. Да, так и есть: от флакона одеколона, который уже года два как стоял нетронутым с момента его покупки, остались рожки да ножки. Николай тут же быстренько собрал всю парфюмерию, что имелась тут в комнате и перенес ее в свою спальню. Снова пришел на кухню и сел за стол. Маша потихоньку приходила в себя.
- Ну, я так и думал, - глядя на нее, сказал Николай. - Нет больше нашего дорогого одеколона. Почил в бозе! Выпит до дна! В комнату войти нельзя. Надо проветривать. Хоть святых вон выноси.
- А вот и они, собственной персоной! - Маша кивнула на входную дверь. Умытый и выбритый Вовка лишь бегло взглянул на Машу и прочно, без слов, уселся на свое место. Началась молчаливая трапеза.
Маша за стол не села, а принялась обжаривать на сковороде ломтики хлеба из хлебницы, в которой перед этим шарашил грязными руками их незваный гость. Обжарив, она складывала их в чистую тарелку, стоявшую тут же на столе.
- Ну, что ж ты дальше-то думаешь делать? - первым не выдержал Николай, обращаясь к молчаливо жующему Вовке. - Как дальше жить собираешься? - тот, не поднимая глаз, молча накалывал на вилку явно неподдающийся кусок яичницы. Наконец это ему удалось и он молча отправил кусок себе в рот, проглотил, почти не жуя, и невозмутимо принялся за следующий.
- Что же ты отмалчиваешься, чемпион по яичницам? - Николай не отставал. - А?
- Да дай ты ему покойно поесть! Что пристал! - встряла тут же Маша. - Пусть хоть одеколон заест, а то дышать нечем.
- Какой еще такой одеколон? - деланно встрепенулся Вовка. - Что вы еще придумали?
- Какой одеколон? - переспросил Николай. - А тот одеколон, что пылился на книжной полке два года и ждал, когда это ты приедешь, наконец, и его употребишь!
- Да не пил я никакого вашего одеколона! - закричал Вовка. - Не пил! Может, скажете, я и политуру пью?
- Политуру? - перебил его Николай. - Ты что же, столяр-краснодеревщик? Откуда ты знаешь про политуру?
- Откуда, откуда! Не пил я вашего одеколона! - Вовка вновь принялся, было, за прерванную еду.
- А куда же ты его дел? - не отставал Николай.
- Куда, куда! - бубнил с набитым ртом Вовка, - прыщик свой прижигал! - и он указал пальцем себе на лоб, на котором, как Николай ни старался, так ничего и не разглядел.
- Да у тебя он в голове! В мозгах твоих куцых, понятно!
- Кто? - как бы не уловил иронии Вовка, глядя вопросительно на Николая и продолжая жевать.
- Прыщ твой в голове у тебя прячется.
- Да не пил я ничего! - взревел Вовка. - Уеду я сегодня, не беспокойтесь! Вот одежда высохнет и уеду! Тут же! - он, было, встал уходить, но потом посмотрел на стол и передумал. Снова сел и продолжил завтрак.
- Одежонку свою ты, кстати, сначала выстирай. Не Маше же этим заниматься. А то твое замоченное так само никогда и не высохнет. Долго ждать нам придется, - спокойно уточнил Николай.
- Одеколон он не пил! - не удержалась Маша. - Да ты посмотри, на кого ты стал похож! Николай выглядет не старше тебя на десять лет, а моложе на пятнадцать!
- Ладно, ребята, - перебил ее Николай, - довольно пререкаться. Давайте поговорим спокойно. Ты, Вовка, перестань жевать. Вот ты хоть понимаешь, что пока ты не станешь работать, тебя никто содержать не сможет? И не из-за жадности или обиды, а просто не вытянет? Да и ты, начав работать, почувствуешь себя человеком. Заимеешь свой угол какой-никакой. Тогда и дети твои не станут бросаться на тебя с топором, выгоняя тебя на мороз в одних подштанниках. А? Как?
Вовка в ответ безмолвствовал, глядя перед собой в стенку. На лице его отражалось только одно единственное желание: перетерпеть эту очередную мораль, которых он пережил за свою бестолковую жизнь не одну тысячу, пережил от родственников и близких, от знакомых и абсолютно чужих. И что интересно: каждый из них ему твердил одно и то же: иди работай! Заладили! А он, как сказочный колобок, от всех ускользал.
- Это не так просто, - Вовка на мгновение показал свои глаза Николаю и снова его лицо облачилось в неподвижную маску.
- А ты начни, начни! - встрепенулся Николай, - мы поможем! Для начала походи по ЖЭКам. Там всегда люди требуются. У них и угол свой можно заиметь. Начни хотя бы мести дворы. Ты, я надеюсь, сможешь?
Вовка молча поднялся из-за стола, буркнул "спасибо" и удалился в свою комнату. И было непонятно, к чему относится это "спасибо": то ли он благодарил за завтрак, то ли за предложение пойти в дворники.
Прошло часа два. Николай задумчиво стоял на кухне у окна и глядел на кишащий детворой двор, на снующих по нему туда-сюда людей. Суббота. Каждый в этот выходной старался что-то сделать: одни бежали в продуктовый магазин, возвращаясь оттуда, груженные двумя-тремя сумками, другие уже успели побывать на "туче" - местном толчке, третьи вышли погреться на раннем весеннем солнышке, четвертые яростно выбивали свои небогатые ковры и от их ударов по коврам у Николая почти закладывало уши. Тут же рядом с выбивальщиками многочисленными белоснежными рядами развешивали только что выстиранное белье, не обращая никакого внимания на клубящуюся серую пыль.
Вовка из своей комнаты не выходил. Николай вспомнил свои с Машей ночные туалетные приключения и решил в профилактических целях провести с Вовкой небольшие занятия на деликатную тему, иначе события грозили повториться в ближайшие же часы. При этом оказалось, что Вовка никак не мог взять в толк "почему он ссыт неправильно", из-за чего Николаю самому пришлось показывать почти весь процесс в деталях. Но зато последующее время показало, что сей благородный труд был не напрасен. После этих занятий Вовка пошел в ванную стирать. Что он там делал, закрывшись, одному Богу было известно, но "процесс" длился несколько часов и, вероятно, продлился бы еще дольше, если бы соседи снизу не прибежали с просьбой проверить, не прорвало ли чего-нибудь, ибо их стало затоплять. В конце концов, Маша еще битый час собирала всеми имеющимися в доме тряпками воду с пола в ванной, а Николай, бросив постиранное Вовкой белье в таз, сам все это развесил во дворе. Перед соседями извинились. Да они и сами все хорошо поняли, едва увидели это чудовище в ванной. Претензий не предъявили. Только сочувственно покачали головами...
5.
В субботу и воскресенье Вовка появлялся из своей комнаты только для приема пищи. В остальные часы он валялся, не раздеваясь, в постели. Залезал под одеяло прямо с головой. На все предложения прийти и посмотреть хотя бы что-нибудь по телевизору отвечал отказом. Только попросил дать ему радиоприемник. Николай достал из-под своего стола упрятанный когда-то туда "Ленинград", выставил его Вовке, показал, как пользоваться и ушел. С того момента, похоже, приемник у Вовки не выключался. В воскресенье к вечеру вовкины вещи высохли. Николай снял их с веревки во дворе, аккуратно все сложил на табуретке и зайдя к Вовке в комнату, молча поставил табуретку с вещами у изголовья дивана, на котором спал Вовка. Молча вышел. Вовка даже головы не повернул.
В понедельник, как обычно, Николай ушел на работу в семь утра, а уже в десять его позвали к телефону: звонила Маша.
- Тут Вова хочет с тобой поговорить. Он сейчас уезжает и хочет попрощаться, - уточнила она.
- Как уезжает? И далеко?
- Потом все расскажу. Даю трубку.
- Алло, Коля! - послышался сиплый вовкин голос. - Я сейчас еду в Одессу. Там постараюсь устроиться на работу. Я, когда там был, присмотрел кое-что. Так что пока.
- Ты запиши наш адрес, а когда устроишься, сразу мне напиши, - перебил его Николай.
- Давай, - согласился Вовка.
- Маша тебе пусть продиктует, - ответил Николай. - Успехов тебе.
- И тебе, - прохрипел Вовка и положил трубку.
Спустя час Николай позвонил домой, чтобы узнать, что же все-таки вынудило Вовку собраться уезжать. Маша рассказала, что они с Вовкой утром долго беседовали.
- Ты на него действуешь, как удав на лягушку, - укорила она Николая. - Вовка решил начать работать. У нас это сложно сделать, а в Одессе есть "Привоз". Там то одному подсобит, то другому. Глядишь, на день и заработает. На угол и на еду. А там видно будет.
- Что-то мне слабовато верится в это, - засмеялся в трубку Николай. - Гляди, как бы этот орел к вечеру не заявился домой.
- Да ты что! - возмутилась Маша. - Я ему дала твою сумку. Помнишь, с которой ты ходил на работу? Положила в нее мясные консервы, банку выжарок из сала, хлеба, еще кое-чего из съестного. Положила мыла, нитки, с иголкой, бритвенный прибор твой старый...
- А в чем он уехал? - спросил Николай.
- В своем. Правда, сперва пытался уехать в твоем, но я ему без тебя не разрешила.
- А дочкины вельветки он оставил?
- Конечно, оставил! Хотя... - засомневалась она, - погоди, не клади трубку, я сейчас гляну.
Николай ждал недолго.
- Нету вельветок! - растерянно сообщила Маша. - Как же я так забыла про них!
- Ха-ха-ха! - расхохотался опять Николай. - Да ты бы и не проверила! Не станешь же ты у взрослого мужика требовать, чтобы он снял штаны перед тем, как ему выйти из дома! Ха-ха-ха! Да он просто-напросто поверх них надел свои болотные!
- Невероятно! - Маша недоверчиво дышала в трубку. - Тогда на нем сейчас четыре пары штанов?
- А он привык к таким поворотам, - не уставал смеяться Николай. - Я думаю, жди его домой вечером. Не переживай. Он поболтается по городу с твоими консервами и явится пред твои очи... Вполне возможно, что консервов при нем уже не будет...
- Ну и ну! - выдохнула вконец расстроенная Маша. - А ты вечно сгущаешь краски. Все. Пока. До вечера. - И положила трубку.
Вопреки прогнозам Николая вечером Вовка не появился.
- Уехал, бедолага, - вздыхала Маша. - Где-то он сейчас?
- Да он у твоей дочери украл совершенно новые штаны! - подтрунивал Николай. - Вот она приедет и задаст тебе!
- Да пропади они пропадом, эти штаны! - сердилась Маша. - Человека жалко!
- Жалко, - соглашался Николай, сразу становясь серьезным.
В эту ночь они, наконец-то, выспались. Легли рано, сразу после "Новостей", и проспали безмятежно всю долгую ночь. Утром, как обычно, Николай на скорую руку позавтракал и побежал на работу. На троллейбусной остановке в нетерпении толпился народ. Битком набитые троллейбусы с дымящимися шинами проскакивали с шумом мимо, едва не давя в надежде бросавшуюся им навстречу мятущуюся толпу. Обычное ежеутреннее дело. Николай решил переждать, пока немного схлынет неуправляемый поток страждущих, и, подойдя к опоре троллейбусной сети, принялся разглядывать густо наклеенные на ней объявления. Продавалось и менялось все, что угодно. Один молодой человек даже предлагал пожилым и состоятельным дамам свои мужские услуги и клятвенно заверял, что дамы останутся им довольны. Рынок есть рынок. Николай почему-то вспомнил одно расхожее изречение: "Дэнги ест - дама гуляем, дэнги нэт - жена бижим". Усмехнулся...
- Привет! - кто-то потянул Николая за рукав куртки. - А я был на Старой Почте у дяди Миши с тетей Валей! - перед Николаем стоял собственной персоной радостный Вовка. С его, Николая, сумкой через плечо. В своей неизменной серой кепочке и когда-то коричневой шубейке.
- Привет! - ничуть не удивился Николай. - У какого дяди Миши?
- Да помнишь ты его! Он тебя помнит! И тетя Валя тоже, - Вовка приготовился объяснять. - Это на нашей улице, там, где мы жили. Вспомни!
- Это второй дом от угла по нашей стороне, что ли?
- Да, да, да! - обрадовался Вовка. - Живут шикарно. Машина своя. Сажали меня в нее. Правда, сильно постарели.
- Да откуда ты их помнишь-то! Тебе лет-то совсем не было тогда! Сорок слишним лет минуло! Ты что! - искренне удивился Николай. - И место ведь запомнил!
- Да я с их Мишкой тогда бегал. Дружили. - Вовка вдруг замолчал. Потом: - А я тут вчера обошел ЖЭКи. В одном мне комнату предложили и тридцать пять лей в месяц. Дворником. А ты не мог бы, Коля, позвонить в Баку, чтобы они мне пенсию сюда выслали? Целый год не получал.
- В каком ты, говоришь, ЖЭКе был? - не слушая Вовку, спросил его Николай.
- Да вон в том, в тех домах - Вовка махнул рукой в сторону базарчика. - В сто первом.
- А... - кивнул Николай, - понятно. Ну, пока. Я уже почти опоздал.
Он опрометью бросился в подоспевший троллейбус: тот, слава Богу, не проехал мимо и в него была возможность хоть как-то втиснуться. Николай увидел, как Вовка бесцельно побрел куда-то вглубь массива домов, расположенных в стороне от остановки. "Сто первый ЖЭК появится у нас лет через пятьдесят, - подумал он. - Если все стройки вместе со строителями окончательно не перемрут к тому времени. Во что сегодня трудно не поверить".
Выйдя из троллейбуса, Николай не пошел к своей работе размеренно, как это он обычно делал, любуясь по пути утренним парком и спрятанным в глубине его огромного густого леса небольшим продолговатым озерцом. Он почти побежал, торопясь с работы "обрадовать" Машу. Она действительно "обрадовалась": охнула и сразу замолчала. Затем, как ребенок, которого в очередной раз обманули взрослые, пожаловалась:
- А он меня так уверял, так уверял! Так серьезно собирался! Пуговицы все свои перешил. Попросил в дорогу иголку с ниткой...
- Да ладно! Будет плакаться-то! Успокойся. Если придет, в дом не пускай. Смотри, не поддайся на уговоры! Я сам с ним разберусь.
- Я теперь боюсь! - запричитала Маша. - Я из дома не выйду! Ты купи, пожалуйста, хлеба, когда пойдешь с работы...
- Ничего не бойся! - раздраженно прервал ее Николай. - Сиди дома и не открывай дверь! Вот и вся твоя забота! В случае чего - звони мне! Все! Мне некогда! Извини! Пока!
День для Николая прошел без телефонных звонков от Маши. Вечером, идя с работы домой, он зашел по пути в магазин, купил два белых батона, сунул их в сумку и заторопился к остановке. Потом сбавил шаг: раньше надо было спешить, чтобы успеть на телепередачу "Час пик", а теперь... Совсем недавно, ровно первого марта, убили ведущего этой передачи Влада Листьева. Весь бывший Союз уже не штурмует после работы общественный транспорт, боясь пропустить полюбившуюся телепередачу... Рынок, мать его...
В конце концов Николай благополучно добрался до своего подъезда, поднялся на лифте на восьмой этаж и, поднимаясь по леснице на свой девятый, внимательно смотрел вперед и по сторонам: Вовки нигде не было видно. - Уехал, наверно, все-таки, - едва успел подумать Николай, подходя к двери своей квартиры и машинально поворачивая голову налево, на лесницу, ведущую вверх к машинному отделению лифта. На ней прямо посередине на ступеньке сидел Вовка, держа на коленях знакомую Николаю сумку.
- Ну и что ты тут сидишь? - спросил Николай, нажимая на кнопку дверного звонка. - Ты же, кажется, уже должен быть в Одессе?
- Так я же пошел к дяде Мише. Как я мог поехать? - пробурчал Вовка в ответ.
- А ЖЭК? - продолжал Николай.
- Я завтра уеду, - гнул свое знакомое Вовка. - Я же был у дяди Миши. Да и куда я сейчас пойду? На вокзал нельзя: там билет требуют, а у меня денег нет, - резонно заключил он.
- Это - твои проблемы, - по-современному, уже по-рыночному парировал Николай. - Ты знал, что делал. Но в квартиру я больше тебя не пущу.
- Я же ему еще и денег, как порядочному, в дорогу дала! - Маша уже стояла в дверях. - Как тебе не стыдно!
- А я с тобой не разговариваю! Я с братом разговариваю! - услышал уже почти за спиной Николай и молча закрыл за собой тяжелую железную дверь. Вовка так и остался сидеть посреди лестницы в сумерках наступающего вечера.
Ужинали они с Машей молча. Так же молча Николай включил телевизор и глядел в него, ничего не понимая, ничего не слыша, словно перед ним было пустое пространство. Пришла Маша, села рядом и тоже глядела, словно в пустоту. Так они и просидели молча, не выключая света, перед работающим телевизором до самых вечерних "Новостей".
- Если мы сейчас уступим и пустим его, - не выдержала Маша, - то все начнется сначала, и мы никогда, никогда, до самой нашей смерти не избавимся от него. Он и нашу квартиру потом продаст и пропьет. - Она вышла на кухню. Потом снова тихо зашла и, заглядывая в глаза Николаю, шепотом спросила:
- А может мы этого дурака все-таки пустим? Как же он там один, в темноте, ночью, на холодной чужой леснице? Он же, наверно, голодный! А кто ему хоть попить даст? Кто в туалет пустит? А, Коля? - Маша снова отправилась на кухню, не дождавшись от Николая никакого ответа. А Николай молчал. Сейчас он видел небольшой кубанский горный поселок Нефтегорск, бабушкину хатенку под крутой горой. Из этой хатенки под самый Новый год увела его на ночь к себе соседка тетя Шура Пустоварова, потому что в их хатке начиналась какая-то непонятная ему суета вокруг матери. Как наутро он вернулся домой и ему показали завернутое в новенькие синенькие пеленки спящее краснолицее существо. "Твой братик", - сказала ему бабушка. Как он, Николай, приставал к матери, чтобы брата назвали Вовкой и, как спустя три месяца, этот самый Вовка уже умирал там, у них дома, задыхаясь от двухстороннего воспаления легких, а мать колола и колола ему уколы, колола в его маленькую, домиком, грудку, а он даже не плакал, а только издавал при этом какой-то натужный звук "ы-ы-ы", а Николай, предчувствуя близкий конец брата, убежал и забился в отчаянии в копну сена в бабушкином сарае и горько, горько плакал...
- Не могу! Не мм-м-о-гу! - зарыдал Николай, и крупные слезы ручьями покатились из его ничего не видящих глаз. - Не ммо-гу! - застонал он, обхватив дрожащими руками свою рано поседевшую голову и сотрясаясь от рыданий. - Ой-ей-ей-ей!...
- Что с тобой, Коля! - Маша вбежала на этот стон и начала трясти Николая за плечи. - Коля, что с тобой? Приступ? Коля? - и вдруг, догадавшись, пронзительно, по-бабьи, заголосила, как по покойнику: - Ой лихо мое, лихо! Ой, да что же с нами происходит! За что же нас так! Ой, что же мы наделали-то! Что же мы наделали-и-и-! Ой-ей-ей! Ой, лихо-о-о!
А Вовка в это время уже безмятежно спал на площадке перед дверью в машинный зал лифта, согнувшись калачиком на своей куценькой свалявшейся шубейке, подложив себе под голову где-то подобранную им по случаю коробку из-под "сникерса". Ему снился Баку, Шиховский пляж, теплое ласковое море, пахнущее свежей нефтью, и мама, протягивающая ему огромный кусок лаваша, густо намазанный желтым сливочным маслом и крупной черной зернистой икрой....
26.03.1995 г. Кишинев
Ночной тать белой масти
Нервно-прерывистый и резкий, как автоматная очередь, трезвон дверного замка и нетерпеливое глухое буханье в тяжелую железную дверь - непременный атрибут современного общественного бытия (эпохи цинизма и человеческих пороков) - оторвал бабушку с дедушкой от вечерней трапезы. Оба недоуменно переглянулись и бабушка, кряхтя и вздыхая, тяжело вылезла из-за стола и медленно и недовольно направилась в прихожую.
- Кто? - хрипло спросила она, - кто там? - прокашлявшись, повторила она свой вопрос уже чистым молодым голосом.
- Это я, бабушка! - услышала она тоненький голосок внучки и принялась вертеть вправо черную защелку дверного замка. Когда дверь с казематным звуком, наконец, отворилась, черноглазая, стриженая под мальчика, с челкой, как у болонки - до самых глаз, девчушка восьми лет молча шмыгнула мимо бабушки и тут же закрылась в туалете.
- Приспичило, - благодушно сказала бабушка и с тем же казематным гулом, что и отворяла, захлопнула бронированную дверь.
- Приспичило Ксюшке-то, набегалась, поди, - улыбаясь, сообщила она дедушке, входя на кухню и снова садясь за стол. - Вырвалась, наконец, из под материнской опеки. Совсем очумел ребенок, - добавила она осуждающе и, не обращая внимания на дедушкино молчание, принялась за прерванный ужин.
- Мать-то еще в поезде - на пути к своему дому. Мается, поди. Как она там доберется до дома? Да еще эта пересадка в Москве! Да ладно в Москве-то! - никак не унималась бабушка. - Вон высадят в каком-нибудь Брянске: рожа может им не подойти! Чай, девка-то, как никак, из-за границы теперь возвращается! Хотя и из-за новоиспеченной, да это им не указ! Ох, и наделали дел! Ох, и понаделали!..
Дедушка никак не реагировал на все происходящее и продолжал механически жевать, задумчиво глядя куда-то в пустоту: у него были свои проблемы. До пенсии оставалось полгода, на дворе вовсю буйствовали "рыночные отношения", в которые он ни по каким меркам не вписывался. За сорок лет своей непростой работы он так и не сумел понять со своими двумя "высшими", почему один человек должен быть волком по отношению к другому.
"Выживает сильнейший, как в природе", - цинично, с напором. прилюдно на всех углах заявляют совсем недавние бывшие высокие чины, которые и теперь столь же высокие и которые в один момент превратились из очень красных в очень белых, желтых, серых, коричневых и со множеством иных оттенков "новых". "И в депутатов, в доллары одетых", - усмехнувшись, вдруг вслух произнес дедушка слова одной из своих песенок, которую он в минуты хорошего настроения пел себе под гитару.
- И депутаты, и депутаты тоже, - тут же подхватила бабушка, - хороши! Я б...
- Иди зови Ксюшку ужинать, - прервал ее дедушка. - Что-то она там застряла...
- И ничего я не застряла, дедушка! - Ксюшка стояла на порожке кухни тоненькая, как только что проросший и еще не окрепший стебелек. - Я... - Лицо ее вдруг некрасиво и не по-детски искривилось, и она вдруг разрыдалась, почти что заголосила, чего с ней за те несколько лет, что родители привозили ее на лето "к старикам", никогда не случалось.
- Ды ты что это, золотко? - тут же засуетилась бабушка, безуспешо пытаясь побыстрей выбраться из-за стола. Но мешала кухонная плита, упиравшаяся ей почти что в спину, да нахлынувшая внезапно откуда-то непонятная тревога, которая путала ее движения.
- Что там еще случилось? - привычно задал вопрос дедушка. - Гляди-ка, как твоя бабушка снова расправляет над тобой крылья! Да перестань ты реветь и скажи толком!
-- А вот и не скажу, - захлебываясь в рыданиях, прокричала Ксюшка. - Вот и не скажу! Я только бабушке одной скажу! - тут же поправилась она и обеими тоненькими ручонками обхватила бабушку, уже успевшую к тому времени, наконец-то, выбраться из-за стола. Уткнувшись своей челкой в мягкий бабушкин живот, Ксюшка немного успокоилась, и они с бабушкой ушли в ксюшкину комнату.
Дедушке больше не елось, он механически вымыл посуду, подошел к окну, выходившему во двор их дома, и принялся, как обычно, безразлично оглядывать двор. С высоты их последнего этажа двор походил на растеленное на земле огромное панно, на котором были запечатлены различные картинки, словно вырезанные из одного учебника по английскому языку, хранящемуся у дедушки еще со студенческих времен: группами по нескольку штук - машины, большей частью - иномарки. Между машинами "бесилась" детвора. Те, что побольше, гоняли мячи разного калибра. Мелюзга висла на разного рода перекладинах, обильно рассыпанных по двору, или носилась друг за другом. Уже не по-английски на скамеечках сидели мамы с малышами и старушки, а рядом в нескольких местах оглушительно выбивали ковры, не обращая ровно никакого внимания на развешенное тут же длинными рядами для просушки белоснежное выстиранное белье... В дальнем углу двора стоял яркосеребристый фольксваген, вокруг которого было полно разного сорта детворы. Там же несколько мужчин и женщин, явно что-то обсуждая, нервно размахивали руками.
- ЧП там что ли какое, - механически подумал дедушка и перевел взгляд на противоположную часть двора, где дивно алели крупные розы, а старая крутая иномарка толчками пыхала на них темносизым дымком. Современная городская пастораль...
- Ну, нет уж! Больше ты на улицу - ни шагу! - услышал дедушка грозный бабушкин голос. - Ни шагу! Я в ответе перед твоей матерью за тебя! Ты знаешь, что она натворила? - бабушка была уже на кухне, крепко держа за руку мелко дрожавшую заплаканную Ксюшку. - Нет, ты подумай, что она натворила! - бабушка наступала уже на дедушку. - Уму непостижимо! Это девочка в восемь-то лет! У-му не-по-сти-жи-мо! - Раздельно, четко, по слогам отчеканила бабушка, резко дернув Ксюшку за ручонку.
Дедушка всегда на подобные дела реагировал довольно вяло и поэтому, продолжая глядеть во двор, не оборачиваясь, спросил:
- Ну что там трагического еще произошло?
- Я разбила стекло у машины! - громко зарыдала Ксюшка и, несмотря на бабушкин грозный вид, вновь обхватила ее своими ручонками, ища у нее твердой защиты от уже надвигающейся на нее беды.
- Только этого нам не хватало! - дедушка резко оторвался от окна и повернулся к бабушке с Ксюшкой. - Как же ты умудрилась? - недоверчево спросил он. - И чем?
- Чем, чем! - раздосадованная его непонятливостью в таком простом деле, передразнила его Ксюшка. - Камнем, вот чем! - и вновь залилась слезами.
- Да что ты ревешь-то, ровно корова! - встряла бабушка. - Объясни толком дедушке, что и как!
- Не может быть! - не поверил дедушка. - Во дворе и камней-то нет. Да и что ты с ним делала? С камнем-то что ты делала?
- Что ты делала, что ты делала! - опять начала передразнивать непонятливого дедушку Ксюшка. - Не понимаешь что ли?
- Не понимаю, - искренне сознался дедушка.
- Мы абрикосы с дерева сбивали, вот что! Да объясни ты ему, наконец! - забыв про плач, Ксюшка раздраженно дернула за рукав уже начинающую вдруг по-настоящему понимать, что же все-таки на самом деле произошло, и оттого одеревяневшую бубушку. А бабушка в этот момент думала о своей мизерной учительской пенсии, которую и выплачивают-то не во время, о том, что стекло это, будь оно проклято, потянет на десять-пятнадцать ее пенсий, а дедушкино предприятие вот-вот закроется, хотя и сейчас он получает не намного больше бабушки, а работает, как вол, чтобы хоть как-то успеть дотянуть до пенсии... Да тут еще мировой капитализм вынуждает наших "отцов" повысить пенсионный ценз... "Как станем доживать?" - молчала бабушка, не слыша ксюшкиных приказов...
- Что тут объяснять? - очнулась бабушка от своих невеселых мыслей, - что тут объяснять? Сбивали они с дерева абрикосы камнями... Господи! Да хоть бы спелые были-то! Ведь одна же зелень! Хоть бы дали им вырасти! А тут подъехал один крутой на иномарке, поставил ее рядом с деревом и ушел.
- А что, там взрослых никого не было? - спросил дедушка у Ксюшки.
- Да какие взрослые, какие там взрослые! Что ты вопросы-то непутевые задаешь ребенку! Взрослые! Да она, когда забегается, себя-то не помнит! Нешто она видит, что вокруг нее происходит?
- Вижу я, бабушка, все вижу! - Ксюшка снова накуксилась и отошла от бабушки.
- А сколько вас там охотилось за этими абрикосами! - продолжал интересоваться дедушка у Ксюшки. - Ты одна, что ли, была? - Ксюшка насупилась и замолчала. - Одна, что ли была? - тверже повторил свой неудобный вопрос дедушка. - Отвечай!
- Одна, одна, - пробурчала Ксюшка, - мы были с Настей и с Ленкой.
- С какой еще Ленкой? - спросил дедушка.
- С какой, с какой! Ты ее не знаешь! Она - моя новая подружка! Ты же вообще во дворе никого не знаешь! - заключила Ксюшка свой ответ бабушкиными словами.
- Хорошо, - терпеливо допытывался дедушка. - А кто-то, кроме вас троих, еще был? Или вас было только трое?
- Да нет же! Ну, бабушка, скажи!
- Были там еще две девчонки. Большие уже, - выручила Ксюшку бабушка. - Она тех не знает.
- И что, все бросали камни? - дедушка не отставал.
- Все, - односложно ответила Ксюшка.
- А почему ты решила, что именно твой камень упал с дерева на стекло? Вы же все бросали, не так ли?
- Так, так! - Ксюшка не на шутку начала сердится: этот дедушка был очень непонятлив! - Я видела сама, не понимаешь? - и в подтверждение своей раздраженности сделала своей ручкой определенный жест. Но дедушка на это никак не отреагировал.
- А среди камней, которые летели с дерева, ты узнала свой камень? - ехидно спросил он. - Кстати, а не у той ли машины собралась толпа? - дедушка подвел Ксюшку к окну и показал на серебристый фольксваген, вокруг которого толпился народ. Ксюшка мельком испуганно взглянула в сторону, куда указывал дедушка, и дважды молча кивнула головой.
Тем временем толпа вокруг фольксвагена пришла в движение и потекла через двор по направлению к подъезду, от начала которого бабушкину с дедушкой квартиру отделяла всего только небыстрая езда на вечно заплеванном и записанном людьми и собаками лифте, кнопки пуска которого внутри кабины, расположенные на грязной панели, некогда белые, теперь всегда были все в черной саже и наполовину обгоревшие. Ксюшка, увидев эту толпу, во главе которой радостно бежали те, с кем она еще совсем недавно метала камни в абрикосы, сразу стала бледной, опрометью бросилась в свою комнату и забилась там под письменный стол. Бабушка, до этого молча слушавшая нервный диалог Ксюшки с дедушкой, тоже подошла к окну и, охнув, заметалась по кухне, не зная, что предпринять.
Не открывай, - строго приказал ей дедушка. - С толпой мы разбираться не будем. Скажи им, что уже темновато на лестнице. Пусть тот, кому надо, приходит завтра.
- Может, ты выйдешь? - у бабушки от волнения начали постукивать зубы.
- Делай, как сказано! - отрезал дедушка. - Пусть успокоятся сначала! Пострадавший один должен прийти, а не тащить за собой толпу! Ты что, не помнишь, как нам не так уж давно ставили крестики на двери и почтовом ящике, помечая тех, для кого на центральной площади города гремел лозунг "Чемодан-вокзал-Россия"! Возможно, что эта толпа - продолжение того же. К тому же я далеко не уверен, что именно ксюшкин камень попал в стекло. Она из всех там - чужая, приезжая. На нее могли все свалить местные дворовые. А ребенка запугать - ты сама понимаешь... - Дедушка повернулся спиной к бабушке и стал смотреть в окно. Было слышно, как внизу загудел лифт и через короткое время ухнул, остановившись этажом ниже. Почти сразу же в дверь раздался длинный угрожающий звонок...
- Кто там? - подойдя к двери, с дрожью в голосе спросила бабушка.
- Ну, как вам сказать... - замялся мужской голос за дверью. - Откройте, поговорим.
- А кто вы?
- Откройте! - голос за дверью отвердел. - Поговорим насчет вашей девочки.
- Извините, но сейчас уже темновато на леснице. В наше время, сами знаете, как открывать дверь незнакомым людям. Приходите завтра утром, - заключила бабушка и отошла от двери. Дедушка все смотрел в окно, словно не замечал происходящего. Ксюшка, закрыв личико ручонками, еще глубже забилась под стол в комнате. Бабушка пришла на кухню и молча опустилась на табуретку. Повисла гнетущая тишина. За дверью тоже было тихо. И вдруг, как по команде, по двери сильно забухали многочисленные удары, гулко отдававшиеся по всей квартире, начал непрерывно звонить звонок, послышались беспорядочные детские крики, из которых ничего нельзя было разобрать.
- Вы что там хулиганите? - подбежала к двери бабушка. - Что вам надо? - гам и шум на мгновение смолкли и тут, видимо девочка - подросток, срывающимся голосом нервно и требовательно прокричала:
- Пусть Ксюша выйдет!
- Никуда Ксюша не выйдет! Уже поздно! - строгим учительским голосом ответила в дверь бабушка. - Идите, девочки, домой. - Гам, буханье в дверь и непрерыный стрекот звонка мгновенно возобновились пуще прежнего. Ксюшка от испуга принялась истерически кричать у себя под столом, бабушка сильно побледнела. Дедушка, плохо соображая, что делает, стремительно рванулся к двери, автоматически рванул вправо защелку, с силой ударил в дверь ногой и выскочил на лестничную площадку. Он увидел, как отлетели к противоположной ее стороне двое пацанов и девчонка - все почти с него ростом. Вся детвора, видимо толпившаяся до этого на лестнице и помогавшая бухать в дверь этой троице, мгновенно пустилась наутек вниз по лестнице. За ней тут же хватила и троица. Внизу, на промежуточной между этажами площадке, прижимаясь к боковой стенке, чтобы его не было видно в дверной глазок, остался стоять короткостриженый, с уже резко обозначившимися залысинами белобрысый парень лет тридцати в длинных до колен кремовых шортах, белой домашней майке и сандалиях на босу ногу. Он снизу исподлобья глядел на дедушку.
- Что же это вы тут организуете вторжение в чужую квартиру? Законов не знаете? Или мне полицию вызвать? - задыхаясь от возмущения, закричал дедушка. - Вам же сказали, что приходите завтра утром! Ребенок от страха бьется в истерике, бабушку вот-вот инфаркт хватит, а... - Дедушка не находил слов. На площадку выбежала бабушка.
- Вы что же это безобразничаете? - тихо сказала она парню и заплакала. - Неужели нельзя прийти утром, а не пугать нас, на ночь глядя?
- Ваша дочка, - начал неуверенно парень, обращаясь к дедушке и медленно поднимаясь к нему по лестнице, - ваша дочка разбила стекло моей машины...
Не дойдя трех ступенек до дедушки, он остановился, вопросительно глядя на него.
- Во-первых, это моя внучка, - сердито поправил его дедушка, - а во-вторых, с чего это вы взяли, что именно она это сделала?
- Она единственная тут среди детей чужая, временная, приезжая, - перебила дедушку бабушка, - вот они на нее все спихнули!
- Причем тут дети! - уже раздраженно продолжал парень и полез в задний карман своих кремовых шорт. - Вот! - сунул он под нос дедушке развернутое удостоверение, на котором в сгущающихся сумерках да еще без очков дедушка все равно ничего бы не разобрал. - Вот, - держа перед дедушкой распахнутые корочки, продолжал парень, - я работаю в полиции и сам видел, как именно ваша дочка бросила камень вверх, пытаясь сбить абрикосу. Камень отскочил и упал на стекло моей машины.
- Очень интересно! Полицейский, страж Закона, организует толпу, чтобы та врывалась в квартиру! Очень показательно и современно! - Дедушка больше не находил слов и замолчал, разведя руками. - А вообще при чем тут ваша работа в полиции? - опять наивно возмутился дедушка. - Разве там не было взрослых? И вы, в частности, который видел, не могли сказать детям, чтобы они не бросали камни там, где не положено? Где вы были?
- Ну... - на долю секунды замялся парень, - я только подъехал, оставил машину, забежал домой, выбегаю...
- А камень вот он, летит! - закончил за него дедушка.
- Да я видел! - совсем раздражаясь, заговорил парень. - И все, кто там был, видели! Так что давайте миром решим этот вопрос: вы мне платите за разбитое стекло и расходимся!
- Да чем же мы заплатим-то! - почти что заголосила бабушка. - С наших двух пенсий? Да...
- Меня это мало интересует, - тут же прервал ее парень. - И потом, - мягко, почти вкрадчиво и привычно добавил он, - я же вам ясно сказал: работаю в полиции. Если мы сейчас не договоримся, у вас завтра же начнуться проблемы.
- Да откуда же мы вам возьмем столько денег? - не сдавалась бабушка. - Из вещей и то ничего путного не осталось. Живем почти впроголодь! Вон спросите у соседей! - Тут молчавший до этого дедушка встрял: - Тут так стучали в дверь и сама т ы так кричишь, что уже должен был бы сбежаться сюда весь дом, однако что-то никого не видно!
- Да перестань ты! - отмахнулась от него бабушка. - Люди не хотят вмешиваться, может. Вон спросите у соседей, как я всю зиму, чтобы нам как-то выжить, сидела с чужим трехлетним ребенком по двенадцать часов да еще вела домашнее хозяйство у его родителей только за еду! Откуда же нам взять денег?
Парень молча смотрел на бабушку с дедушкой, потом нехотя повернулся и начал медленно спускаться по ступенькам к тому месту, на котором его недавно обнаружил дедушка. Затем он остановился на том месте, постоял в некотором раздумье, присел на корточки и принялся молча глядеть в узкое окошко площадки сквозь прикрывающую его металлическую решетку.
- Вспомнил свое, родное, - невольно подумал о нем дедушка. - Пауза продолжалась, как показалось дедушке с бабушкой, довольно долго, почти вечность. Парень продолжал в той же позе молча глядеть в окошко сквозь решетку, а бабушка с дедушкой тоже молча стояли у распахнутой настежь двери. Наконец, парень, не поднимаясь с корточек, повернул свою белобрысую голову к дедушке с бабушкой и с неприкрытой угрозой произнес:
- Я же вам сказал: у вас начнутся проблемы... Я работаю в полиции... Непонятно?
- Нам всем это давно понятно, - спокойно произнёс дедушка. - Не первый день живём на этом свете. Вам оно видней, полицейским, чей камень из десятка брошенных вверх, упал на ваш потом и кровью заработанный "Мерседес". И двери вам должны открывать по первому требованию, не то вы толпу организуете и пустите её впереди себя... Да отдай ты ему нашу центрифугу! - вдруг повернулся дедушка к бабушке. - Не то этот блюститель изведёт нас вконец!
-Кк-как-ую? - запинаясь, охнула бабушка. - Какую еще центрифугу? - переходя почти на крик, повторила свой вопрос бабушка. - Это единственное, что я берегу на черный день! Хоть какие-то деньги! Пять лет не распаковываю, стираю и отжимаю все своими руками, а руки-то вон они какие! - бабушка заплакала. - Ты вон не стираешь! - бабушка плакала и тыкала своими сморщенными от долгой и трудной жизни усталыми маленькими руками дедушку в грудь. - Ты не стираешь, ой как не стираешь! Что же мы делать-то станем без центрифуги? - горькие слезы заливали бабушке глаза, и она согнулась, чтобы утереть их концом подола своего старенького, давно потерявшего всякий цвет, халата. Парень немного привстал, оторвался от окошка и заинтересованно посмотрел на дедушку с бабушкой. Потом поднялся в полный рост и медленно, по-лисьи, как и перед этим, прощупывая каждую ступеньку, пошел к ним вверх. Дойдя до предпоследней, остановился и спросил дедушку, как ни в чём не бывало:
- А что я стану делать с центрифугой?
- У нас больше ничего ценного нет, - уже спокойно ответил ему дедушка. - И денег нет, - добавил он. - Так что берите центрифугу и разойдемся, как вы говорите, миром.
- Не отдам я центрифугу, не отдам! - плача, закричала бабушка, - не отдам!
- Не нужна мне ваша центрифуга! - тоже заупрямился парень. - Сколько она стоит? Что я с ней на базаре, что ли, в форме стоять буду?
- Тогда подавайте в суд. Другого выхода нет, - вздохнул дедушка.
- Зачем же в суд? - сразу встрепенулся парень. - Давайте мирно. Я же не злодей.
- Не злодей, а у людей последнее отбираешь! - всё плакала бабушка. - Причём - бездоказательно! По собственному своеволию! Только потому, что - полицейский!
- Да отдай ты ему центрифугу, - мягко сказал дедушка бабушке. - Отдай Бога ради. Выживем как-нибудь. Отдай! - и повернулся к белобрысому: - Берите, прошу вас. Она совершенно новая, нераспакованная. Берегли на черный день. Вдруг денег совсем не будет! Берите! Для нас этот день как раз и настал.
- А как я ее понесу через весь двор? - неожиданно спросил белобрысый. - Пускай хоть побольше стемнеет.
- Ну вот, - обрадовался дедушка, - можете прийти завтра утром, когда все спят, и забрать. Я встаю рано.
- Нет! - наморщил лоб парень, - лучше, когда совсем стемнеет, я пришлю соседа, он и заберет.
- Прекрасно! - дедушка тут же побежал в дом и сразу вернулся, неся перед собой большую коричневую коробку. - Вот! - поставил он, тяжело дыша, коробку перед парнем. - Вот она наша избавительница! - бабушка не вмешивалась.
- Ладно! - махнул рукой белобрысый и принялся спускаться к лифту.
Дедушка побежал назад успокаивать Ксюшку, а бабушка одна осталась на площадке с центрифугой, прощаясь со своим последним ценным имуществом. Стояла почти в полной темноте: они и не заметили, что пока шли "переговоры", на улице стемнело. Сквозь узкое окошко площадки на старенькое бабушкино лицо, по которому текли тихие слезы, падал бледный свет уличного фонаря... Пока дедушка успокаивал Ксюшку, тяжело хлопнула, защелкиваясь, входная дверь и вошла заплаканная бабушка.
- Все, забрали, - с тяжелым вздохом сообщила она. - Приходил какой-то по пояс голый мужик. Унес, - повторила она после небольшой паузы. Дедушка подошел к окну на кухне, потом вернулся, выключил свет, снова подошел к окну. Стал смотреть вниз на слабо освещенный опустевший двор.
- Смотрите, смотрите! - вдруг позвал он Ксюшку с бабушкой, - смотрите, вон они, ночные тати! - Через пустынный двор уверенно шагал белобрысый, а за ним, совсем не чувствуя тяжести коробки, вразвалку двигался крепкий полуобнаженный мужик...
05.07.1997 г. Кишинев
Земляк
1.
Немец вошел во двор бесцеремонно, нагло, как привык он это делать всегда. Короткий автомат болтался у него на правом плече. Он дернул на себя легкую, как и весь плетень, из сухой лозы калитку и оказался во дворе. Поведя по двору ничего не выражающими навыкате глазами, он, надвинув себе на лоб за длинный козырек свою пыльную мышиного цвета фуражку-пирожок, и придерживая рукой автомат, молча направился мимо нас с Сашкой прямо к катуху, в котором глухо об стенку, похрюкивая от удовольствия, чесалась огромная черная сашкина свинья. Только-только мы с Сашкой пригнали наших свиней с толоки, и я, передав свою на попечение бабушки, махнул через перелаз к Сашке во двор. И вот он, немец...
- Эх, был бы Трезор, качан ему в лоб, - сквозь зубы процедил Сашка и, зачем-то оглядывая двор, решительно двинулся вслед за немцем.
- Сашка! - позвал я его. - Ты че?
- Беги домой, Борька! - не оборачиваясь, скороговоркой бросил Сашка. - Нехай бабка вашу свинью схоронит, а то этот и до вас... - И вдруг побежал прямо к немцу, который уже вынимал задвижку, запирающую дверь в катух.
- Стой! - закричал он не своим, каким-то ломающимся голосом, подбегая к немцу. - Стой, дядя!
На меня напал столбняк, и я стоял, окаменев, ровно на том месте, где нас с Сашкой застал, когда вошел во двор, немец, а тот, словно глухой, отшвырнув в сторону вытащенную задвижку, деловито тянул на себя дверцу катуха.
- Стой, дядя! - Сашка, запыхавшись, вцепился в ручку дверцы, оказавшись впереди немца. - Стой! Без мамки не дам! Что же мы исть тогда будем? - глотая слова и закрывая спиной чуть приоткрывшийся проход в катух, закончил он, тяжело дыша. Немец, словно машина, перед которой неожиданно возникло препятствие, без всякого выражения на худом лице левой, свободной рукой, начал отодвигать Сашку в сторону, ухватив того своими крепкими длинными пальцами за шею. Да не тут-то было! Сашке шел уже шестнадцатый год и, хотя он был вполовину меньше длинноногого немца, стоял неподвижно, как вкопанный в землю чурбачок. Совиные глаза немца начали наливаться кровью, он натужно засопел, но сдвинуть с места Сашку не смог. Неожиданно он ударил Сашку прямо в лицо кулаком правой руки. От резкого движения автомат у него сорвался с плеча и повис на кулаке. Сашка, заливаясь кровью, брызнувшей из разбитого носа и лопнувших от такого удара губ, медленно осел на землю.
- Вэк! - заорал немец. - стрельять! - и принялся оттаскивать обмякшего Сашку от дверцы.
- Не тронь его, фриц! Не трогай, гад! - я как-то мгновенно разморозился и кинулся, ничего не соображая, на здоровенного немца.
- О-о-о! Киндер! - немец бросил Сашку, поймал меня, пятилетнего, за руку и, как муху, поднес меня к своему пришлепнутому носу. - Корошо! Корошо! Гут! - и не успев ничего сообразить, от сильнейшего пинка я оказался почти на том же месте, откуда только что бросился на немца в атаку. Жуткая боль меня почти оглушила. До самых глаз все будто залепилось горячей июльской пылью пополам со слезами бессилия и ненависти. Но именно она, эта недетская, всю душу сжигающая ненависть и спасла меня, заглушив собой страшную тупую боль и вдохнув в неподвижное худое ребячье тельце тугие силы мести врагу. Военные годы и для детей - тоже один за три!
Кое-как я поднялся на ноги. Из катуха несся испуганный визг свиньи и злобное лаянье немца: он никак не мог ее вытащить наружу. Свинья, чувствуя неладное, истошно визжала, упираясь копытцами посреди дверцы. Немец пятился задом, таща свинью обеими руками за уши. "Как настоящий волк, - подумал я, вспомнив бабушкин рассказ, что волк, пробравшись в катух, выводит из него свинью, держа ее зубами за ухо, подгоняя ее ударами своего хвоста. - Точно, как волк!"
Дальше все произошло еще быстрее, чем я долетел от пинка немца до своего местонахождения: у дверцы катуха искрой мелькнула цветастая сашкина рубаха, и я увидел, как Сашка ударил пятившегося задом немца чем-то по голове. Немец сразу ткнулся лицом в порог и начал сучить ногами. Сашка отскочил в сторону и глядел на корчившегося в судорогах немца. В руках он держал наготове старое замызганное ведро. Я снова окаменел. Наконец, немец вытянулся и затих. Сашка осторожно, на цыпочках, будто боясь, что тот услышит, все еще не выпуская ведро из рук, подошел ко мне. Лицо его, все измазанное в крови, сильно распухло. На рубахе спереди - кровь.
- Братка, - шепотом произнес он, - братка... Я немца этого... убил, качан ему в лоб! Вот, ведром с сухой известкой! - и он стал поднимать в доказательство ведро к моему лицу. Рука его сильно дрожала. - Вот видишь, тяжеленное, как камень. Сразу, гад, засучил ногами! - добавил он после короткой паузы. - Надо его того... Быстро схоронить. А то мамка должна вот-вот приттить. Подсоби. - А я будто врос в землю. Сашка забросил ведро в огород и повернулся ко мне, взяв меня за плечо: - Да ты очнись, братка, очнись!..
Я открыл глаза: меня легонько тряс за плечо мой спутник Василий Семенович.
- Вставай, Борис, - прошептал он, увидев, что я, наконец, проснулся, - подъезжаем. Хотя стоянка поезда и большая, да вещей у нас порядком. Пока выберемся... Давай, давай, вставай! - и он, уже одетый, умытый и вообще собранный, иронически посмотрел на меня: - Тебя не добудишься! Стонал ты чего-то. Снилось, небось, что с полки падаешь? - он рассмеялся.
- Да нет, другое, - неохотно ответил я, пытаясь кое-как сесть в узком пространстве между второй и третьей полками. - Сколько еще ехать-то?
- Давай побыстрей, по-военному. Минут через десять будем на месте. Постель собери, а то проводник ходит, ворчит.
- Ладно, сейчас. Поворчит и перестанет, - буркнул я, слезая с верхней полки. - мне бы его заботы.
- Да какие у тебя-то заботы? - шутливо возмутился Василий Семенович. - Ты - отпускник. Сейчас вот выйдем на станции, возьмем такси, приедем к хозяину, мою машину нам он подготовил. Немного передохнем, побалагурим для приличия, а потом - в машину и назад - домой. Автоходом! Не торопясь! Прогулка! Кавказский хребет! Черноморское побережье! Пальмы! Магнолии! Загорающие шоколадные девочки! Я хоть и пенсионер, но все же... А ты почти молодой человек...
- Тише, людей перебудите, - прервал я его монолог, затягивая ремень на брюках. - Во-первых, мы же поедем через Баку на Ростов. Какие еще загорелые девочки? А во-вторых, я-то, конечно, молодой, да вот животик, да сорок пять лет немного мешают, - закончил я его тоном, - а так ничего.
- Да пошутил я насчет моря и девочек, - внезапно посерьезнел Василий Семенович и тут же заторопился выносить свои тяжелые чемоданы в проход. Мы подъезжали к началу нашего авантюрного путешествия.
2.
...Давным-давно, когда мне было лет двенадцать-пятнадцать, моя мать работала вместе с женой Василия Семеновича Таисией. Больше того, они дружили. И всё старались подружить нас со Славкой, сыном Василия Семеновича и Таисии, но ничего у них из этой затеи не выходило: холеный, всегда хорошо ухоженный, посещающий престижную школу, при отце, занимающем высокий и хлебный пост, и при многочисленной однофамильной родне, которая была постоянно на слуху в республике, надменный Славка и я - безотцовщина, воспитанник улицы и частых, отчаянно злых драк и не менее злых порок навьюченной заботами и постоянным устройством личной жизни матери, я и Славка - мы были, как из двух разных миров. Я видел, что подружить нас больше старается моя мать. И как всякая мать, она изо всех сил пыталась показать, что и ее ребенок обеспечен ничуть не хуже других. В одной из таких попыток она как-то исхитрилась купить мне старенький немецкий "Гесс" и заставила своего очередного ухажёра, классно игравшего на аккордеоне и бывшего нарасхват на молдавских свадьбах, дать мне несколько уроков музыки. Но не прошло и недели с момента появления у меня аккордеона, как у Славки появился совсем новенький "Хохнер", а сам отпрыск был определен в лучшую музыкальную школу города. Какая уж тут могла быть дружба!
В конце концов, жизнь по-своему все расставила на свои места. Моя мать уехала жить почти в другой конец страны - в Баку. Славка, окончив военное училище, получил назначение... куда бы вы думали? Точно! В Баку! А позднее - в небольшой районный городок на юге Азербайджана, у самой иранской границы, где дослужился до майора. Все это время, пока Славка служил, Василий Семенович буквально мотался между домом и иранской границей, обеспечивая своему великовозрастному чаду досрочные звездочки и максимально возможные в этих условия различные блага.
"Верхнее" славкино начальство сидело в Баку, и Василию Семеновичу приходилось его часто посещать. Человеком Василий Семёнович никогда не был транжиристым и поэтому всегда останавливался у подруги своей жены, то есть у моей матери. И в городе, в котором служил Славка, Василий Семенович уже давно слыл своим человеком и мог достать и добиться чего угодно. Прямо, как у себя дома. Правда, при этом приходилось возить за тридевять земель огромные тяжелые чемоданы, но это - издержки, без этого никак не обойтись. Зато захотел лейтенант Славка жениться - пожалуйста! Папа тут же находит ему невесту, женит сына. Захотел капитан Славка заняться охотой - пожалуйста! Папа заводит крепкую дружбу со старшим егерем охотоводческого хозяйства. Когда Славке не хотелось идти по каким-либо причинам домой, он отсиживался и отлеживался в доме у старшего егеря. Бывало, что и днями. Захотелось майору Славке машину после того, как он прогнал "папину" жену и завел свою, собственную, - пожалуйста! Папа тут же прилетает, одобряет новый выбор сына и приобретает машину, игнорируя всякие самые страшные дефициты. Дефициты ведь, они - для людей попроще, в число которых Василий Семёнович давно не входит. Но Славка есть Славка: он, в очередной раз в усмерть пьяный, в дребезги разбивает папину машину и кое-что ещё и, как и "папину" жену, бросает машину прямо посреди дороги, а сам срочно переводится служить подальше от этого малоудобного места, буквально в другое государство, забыв согласовать свои действия по поводу аварии с местным ГАИ. И папаша вновь и вновь летает на иранскую границу, возит полные чемоданы и тем мирно улаживает все дела и с ГАИ, и с законом, и с машиной: вскоре через друга-егеря ему присылают записку, о том, что "машина - звэр, бэры давай". Это в переводе означало, что машина восстановлена, снята с местной регистрации ГАИ, все проблемы с которой улажены миром, переписана на имя Василия Семеновича и что можно перегонять ее к себе домой. Оставалось дело за малым: кто её перегонит в такую даль? Сам-то Василий Семенович в этом деле ни бум-бум: большую часть своей трудовой биографии он был связан с персональным шофером. Нанимать перегонщика накладно. А на что у Василия Семеновича его умная голова? Его "осеняет": да ведь у сына-то бакинской подруги его Тайки есть своя машина! И в летнее время он, по данным разведки, всегда навещает свою драгоценную мамашу! Вот это удача! За дружбу, хоть и не твою, как известно, надо платить. И вот я, не смея отказать в просьбе своей матери, оказался с Василием Семеновичем на самой иранской границе, чтобы задаром перегнать славкин восстановленный драндулет через пол-страны в тёплый бетонированный кооперативный гараж его полувенценосного папаши. Поезд останавливается, и мы выносим на перрон тяжёлую и громоздкую поклажу Василия Семеновича. Нас встречает черная южная ночь, немного расцвеченная пристанционными фонарями, густая липкая духота да шорох пробуждающихся цикад, уже готовых разом, до боли в ушах, затрещать со всех сторон, как только утренняя заря до положенного цвета окрасит недовольное сонное небо. Наш путь - к дому старшего егеря, где по данным Василия Семеновича нас ожидает "машина-звэр".
3.
Мы попали к егерю только утром, часов в семь: не хотели будить хозяев среди ночи и потому ждали рассвета на станции. Вместе с утром проснулись и местные таксисты, один из которых и доставил нас на тихую неширокую боковую улочку, почти как и все в этом городке, аккуратно заасфальтированную. Перед нами оказался крепкий, не дающий возможности заглянуть с улицы во двор каменный забор, обе половины которого соединяли будто только что вывезенные из заводского цеха массивные новые железные ворота, выкрашенные в густой стальной цвет, и с такой же массивной боковой дверцей. Все было наглухо закрыто и дышало спокойствием и нериступностью. Василий Семенович потоптался немного у ворот, не решаясь стучать, но потом толкнул вперед боковую дверцу, немного придержав ее за большое кольцо-ручку, чтобы ненароком не стукнула. Дверца легко, без скрипа, приоткрылась.
Слева от дверцы перпендикулярно забору я увидел стену какого-то строения, выходящего на середину небольшого заасфальтированного дворика, а прямо перед воротами, метрах в семи - боковую стену другого строения с маленьким окошком посередине стены: небольшая украинская хатка стояла к воротам боком, а широкой застекленной верандой выходила во дворик, в глубине которого наблюдалось еще одно строеньице: летняя кухня. Залаяла маленькая рыжая собачонка, не решавшаяся вылезать из стоявшей справа-сбоку от ворот основательной деревянной будки. Мы стояли у открытой дверцы и ждали, пока кто-нибудь выйдет на лай собачонки. И действительно: вскоре из летней кухни осторожно вышла в длинной ночной белой рубахе пожилая полная женщина и вопросительно посмотрела в нашу сторону. Но, узнав Василия Семеновича, молодо ойкнула и, явно смущаясь, быстро перебежала в стоящую напротив хатку, скрывшись за пологом, закрывавшем вместо двери, вход на веранду.
- А машины-то во дворе не видно, - сказал между тем Василий Семенович, заглядывая за боковую стену, которая находилась слева от нас, во двор. Но тут из хатки, на ходу запахивая халат, выскочила хозяйка.
- А мы ждем вашей телеграммы! Вот незадача вышла! - начала она виновато. - Мы бы подготовились, встретили, как люди, а так...
- Ничего, ничего! - замахал руками Василий Семенович. - Мы по-походному. Айдын прислал нам весточку, что машина готова и находится у вас. Можно забирать?
- Потому мы и ждем, когда вы дадите знать о своем приезде, - быстро ответила хозяйка, суетливо обметая рукой скамью и грубо сколоченный, покрытый выцветшей клеенкой стол, стоявшие посередине дворика. - Да вы присаживайтесь! Присаживайтесь! С дороги, поди, устали? Сейчас вот приготовлю, - она направилась к строеньицу, прилепленному к самому забору у ворот, - помоетесь в баньке и всю усталость, как рукой снимет!
- В баньке можно, - по-хозяйски оглядываясь, неторопливо произнес Василий Семенович. - Вы вот познакомьтесь: мой водитель, - он сделал акцент на слове "мой", жестом указал в мою сторону, будто показывая, какую он лошадь только что приобрел. - А где же Саша?
- Да я уже поняла, - пропустила мимо ушей последний вопрос хозяйка. Остановилась, вернулась к нам и протянула мне свою полную руку. - Галина Григорьевна.
- Борис, - ответил я, подавая ей свою руку. - Не стоит беспокоиться, Галина Григорьевна. Мы не очень устали. Не хлопочите.
- Надо, надо! - твердо перебил меня Василий Семенович. - Не слушайте его, Галина Григорьевна. С дороги всегда банька не помешает. Так где же Саша?
- Да он еще совсем затемно уехал. Дела у него какие-то. Не сказал. Обещался часов в десять приехать.
Мы сели на приготовленную чистую скамью, предварительно сложив под навесом, закрывавшем добрые две трети дворика, всю свою поклажу. - Здесь хозяин держит свою машину, - пояснил мне при этом Василий Семенович. Хозяйка же тем временем скрылась в баньке. Я не знал, куда себя девать и сидел, словно проглотил аршин, а Василий Семенович, сидя, принялся готовиться к собственному омовению: сбросил с себя пиджак, рубаху, туфли, носки. Принялся за майку.
- Вы что, догола решили тут разойтись? - не выдержал я.
- Да тут все свои, что ты такой щепетильный! - недовольно пробурчал он, но разоблачаться прекратил и с нетерпением уставился на дверь баньки. - Я и тебе советую, - продолжил он после некоторой паузы. - Вот поедем своим ходом, неизвестно еще, когда помыться придется.
- Хозяева-то не виноваты, что мы едем своим ходом, - начал задираться я.
- Ну, тебя, молодого, не переговоришь! - безнадежно махнул Василий Семенович рукой и принялся ждать.
Пока Василий Семенович мылся в баньке, хозяйка готовила завтрак, а я сидел посреди двора за пустым столом и молчал. Не нравилась мне эта затея с перегоном машины за три тысячи километров. Не нравилась и все тут! Тем более, что за такой короткий промежуток времени, что мне пришлось общаться с Василием Семеновичем, я про себя отметил, что он никогда не говорит всей правды. Он ее выдает небольшими порциями, строго дозируя их соответственно обстоятельствам. Ровно столько, сколько требуется для соблюдения его интересов. Так, дома он говорил, что машину надо будет перегонять из Баку. Машина, мол, недавно купленная. Мол, Славку, вот, перевели служить за границу. Не возьмет же он туда ее с собой. А бросать жалко: деньги все-таки. В Баку, по договоренности со мной, Василий Семенович должен был приехать через неделю после меня: "Отдохни, побудь с матерью, а потом соберемся потихоньку и поедем. У тебя, де, все-таки отпуск!" - говорил он. Но за день до своего прибытия он мне позвонил в Баку: - Срочно возьми два билета на поезд до N. Придется оттуда гнать машину. Из Баку не получается. - Мать недоуменно смотрела на меня:
- Он же меня уверял, что машина давно стоит здесь у знакомого! - я развел руками и пошел брать билеты до N. С билетами было не так-то просто: начало августа. Еле-еле достал в плацкартный вагон, выстояв почти целый день огромную очередь. Но по прибытии Василий Семенович был крайне недоволен: - Не верткий у вас сын, Екатерина Максимовна, - как бы шутя выговаривал он матери, - очень неверткий! Я бы не то что жесткие, мягкие бы места достал!
- Ничего, за своей машиной можно и в общем вагоне погонять, - отшутилась тогда мать. - Поздновато вы позвонили.
- Ну да ладно, что поделаешь, как-нибудь доедем. И не такое видывали, - покровительственно успокоил мать любитель мягких мест, - хотя... - И не договорив, он в явной досаде, махнул рукой. Я, было, открыл рот, чтобы поставить его на место, но мать как-то жалобно посмотрела на меня, и я, в свою очередь, повторил недавнее движение Василия Семеновича.
... Всю ночь мы маялись в лениво шедшем, словно верблюд по раскаленной пустыне, поезде. В вагоне была невыносимая теснота и еще более ужасная, духота. Не спалось. Видно настало соответствующее время, и Василий Семенович стал делиться со мной еще одной частью своей правды. Не видя его лица, я чувствовал, что он при этом старался заглянуть мне в глаза и найти там сочувствие. Оказывается, Славка, негодяй, машину-то разбил и бросил ее посреди дороги на месте аварии. Хорошо, нашлись добрые люди, подобрали машину да ему, отцу, тут же сообщили. Уж сколько он сюда возил-перевозил всего! Да этот шарабан и не стоит того! Если б не... Я слушал его заискивающий шепот и вместо сочувствия к этому пожилому и, без сомнения, давно уставшему человеку, глухая злость закипала во мне. И прежде всего на самого себя. Я действительно абсолютно порядочный лопух! На кой черт я должен потратить свой отпуск на ненужные мне мытарства с какой-то разбитой машиной! Неужели нельзя было все заранее выяснить, что, мол, да как, а только потом давать согласие на эту поездку? А теперь "назвался груздем - полезай в кузов!". Если и дальше так пойдет, то, похоже, завтра я узнаю, что и машины-то как таковой не существует, а нам придется в котомки сложить все, что от нее осталось и пешком драпать домой, потому что остатки славкиных удовольствий нельзя даже отправить малой скоростью! Поэтому, не найдя машины во дворе егеря и видя, что Василий Семенович даже не спросил у хозяйки, а где же она все-таки находится, я представил себе нечто подобное.
Все мои печали, наверно, были написаны у меня на лице, потому что хозяйка, выйдя из баньки, глянула на меня и вдруг заохала, заторопилась, приговаривая, что завтрак вот-вот поспеет, а уж потом надо сразу непременно поспать, "а то на вас прямо лица нет".
Хотя было еще совсем раннее утро, солнце уже нещадно палило и нам с хозяйкой пришлось перенести стол и скамью в другую часть дворика, туда, где была тень, поближе к летней кухне. Оказалось, справа от нее, за домом, хрюкали свиньи, тыкаясь своими влажными пятачками в загородку из металлической сетки, и оттуда шел такой запах, что никакого завтрака мне совсем не хотелось. Но делать было нечего и я, подавив в себе неприятные ощущения и не подавая вида, чтобы, не дай Бог, не обидеть хозяйку, чинно сидел за столом.
За воротами загудел мотоцикл. Во двор вошел среднего роста светловолосый парень лет тридцати. Сразу можно было определить, что это сын хозяйки: уж очень он был на нее похож. Только волосы у матери были темные и с большой проседью, а сын цветом волос пошел, видать, в отца. Парень широко открыл ворота и затем вкатился во двор на грозно урчащем ИЖе. Лихо объехал стоявший на его пути стол, за которым с кислым видом сидел я, и, едва не врезавшись в плетень из-за малости свободного пространства, резко затормозил, подняв за собой вихрь горячей пыли.
- Ну, шалапут! - обернулась, улыбаясь, мать. - Ты что, потише не можешь? Вкатываешься, как на гонках! Вон гляди, гости приехали. Василий Семенович. Будут машину перегонять. Познакомься.
Мы познакомились. Звали его Виктор. Работал он кладовщиком на железнодорожной станции. Только что из ночной. На шум мотора из дома вышла заспанная молодая женщина, его жена, и, словно две горошинки, выкатились двое ребятишек, толкающих друг друга и пытающихся каждый первым проскочить во двор к отцу. Эти веселые рыжеволосые пострелята, ничуть не удивившись, что у них во дворе сидит незнакомый дядя, только пробормотали "здрасьте" и продолжили свою возню, пока Виктор, умывавшийся тут же у рукомойника, устроенного на стенке летней кухни, не цыкнул на них. Ребятишки недовольно глянули на него и наперегонки побежали к бабушке, у которой вот-вот должен был быть готов завтрак. Вышла жена Виктора, неся в руке полотенце. Подала его Виктору.
- Сегодня тяжело было на смене, - фыркая от воды, говорил жене Виктор. - За двоих пришлось пахать: Колька не вышел чего-то, так мне досталось! Сейчас чуток отдохну да поеду снова. Груза много прибыло.
- Тебе что, не хватает своего, так ты и за других вкалывать должен? - Начала было возмущаться жена.
- А тебе-то что с этого?
- Пускай едет, - перебила свекровь, - пускай едет. Ты, Света, не мешай. Работа есть работа, - твердо заключила она. - Я вот сколько здесь живу, все время работала в заготконторе в бухгалтерии. Пока вот на пенсию не вышла, - обратилась ко мне хозяйка, ставя передо мной на стол тарелку, в которой до самых краев плавала картошка в коричневом соусе. От тарелки исходил густой терпкий пар, из-за которого во рту образовалось столько слюны, что неудобно было глотать: очень было бы заметно. - Так чего только не было, - продолжала хозяйка. - Бывало, ночью прибегут домой: "Ой, Галя, выручай! Опять привезли, надо срочно оформить, люди ждать не могут!". И бежишь. Надо. Работа есть работа, - закончила она после некоторой паузы, и мне показалось, что несмотря на то, что она вот уже несколько лет на пенсии, а прибеги вдруг сейчас кто-то из ее конторы, которой она отдала тридцать с лишним лет, крикни магическое "Ой, Галя, выручай!", и она, все побросав, тут же ринется на помощь.
Наконец, из бани вышел влажный Василий Семенович, до пояса обнаженный и с полотенцем через плечо. Виктор и Света сдержанно поздоровались, а ребятишки, не обращая на него никакого внимания, тащили каждый к себе малюсенького полосатого котенка. Тот отчаянно пищал, и чтобы его спасти, бабушке пришлось дать сорванцам по подзатыльнику. Во дворе немного поутихло, но не надолго. Теперь в историю с котенком была втянута собака, спокойно дремавшая до этого в своей будке.
Все, кроме хозяйки и детей, сели за стол. Перед каждым была поставлена такая же порция еды, что и передо мной. Посреди стола хозяйка водрузила огромный полосатый арбуз. Василий Семенович вдруг встал из-за стола и направился к тому месту, где лежало все, что мы с собой привезли. На спине его я увидел огромный белый серповидный рубчатый шрам, окаймляющий правую лопатку. Жестокая метка войны. Чуть пониже этого места заплывшей небольшой воронкой маячила другая отметина. "Досталось ему, бедному", - невольно подумалось мне, и я почему-то отчетливо сразу увидел залитый жарким солнцем двор, себя, лежашего в его горячей пыли, раздираемого нестерпимой болью, окровавленного Сашку с ведром сухой известки в руке и сучащего ногами в предсмертной агонии немца...
- За встречу всегда полагается выпить, - Василий Семенович усаживался за стол с бутылкой коньяка в руке. - Возражения принимаются только от больных и детей. - Он оглядел, улыбаясь, присутствующих.
- Я сейчас, я сейчас! - скрылась в летней кухне хозяйка и появилась из нее, держа в руках небольшие, стограммовые стаканчики. - Вот, пожалуйста, Василий Семенович, наполняйте! - и она снова заторопилась к стоявшему возле летней кухни столику доделывать что-то для завтрака.
- Я не стану! - произнес решительно я. - Во-первых, с чего это в такую рань пить? А во-вторых, мне, наверно, сегодня придется ездить? - полувопросительно закончил я.
- Да, да! Тебе, Борис, нельзя! Ты прав! Кстати, - громко обратился к хозяйке Василий Семенович, - а где же наша машина? - Хозяйка немного замялась:
- Да... она все время тут стояла. Вроде готовая. А потом старик что-там заметил и заставил Айдына переделать. Ах, да! Вспомнила! - она хлопнула себя ладонью по лбу: - У нас здесь летом дождей сроду не бывает. А тут, как на грех, только-только Айдын покрасил машину, а дождичек-то возьми да и случись! Вот пятна от капель и остались кое-где на краске. А старик это увидал, пока машина тут стояла, да и отогнал ее опять к Айдыну: пусть, де, перекрасит.
- Ну а так она бегает? - задал вопрос Василий Семенович.
- Да вроде того. Гудит только посильнее нашей. Да старик мой говорит, что это у ней от какого-то охлаждения. Может и так, я почем знаю, - хозяйка села с краешку за стол и поставила перед собой тарелку с такой же, как и у всех, едой.
- Из-за воздушного охлаждения, - поправил мать Виктор. - У нашей - жидкостное.
- Нехай будет жидкостное, мне все равно, - махнула рукой хозяйка и вопросила: - А чего же это мы сидим, граждане? - За столом сразу все засуетились, готовясь участвовать в трапезе. Василий Семенович принялся разливать коньяк. Света было накрыла рукой стаканчик Виктора, мол, ему еще сейчас на работу идти, но тот твердо снял ее руку со стакана и поправил:
- У нас - жара. Через десять минут все пСтом выйдет.
В это время за воротами взвизгнули тормоза и, рыкнув, замолк, будто на чем-то запнулся, двигатель.
- А вот и наш дед приехал! - объявила хозяйка. Тут же все дружно поставили на стол поднятые, было налитые до самых краев, стаканчики, а сама хозяйка принялась, кряхтя, вылезать из-за стола. Дверца ворот открылась, и во двор вошел небольшого роста коренастый крепыш, скорее белобрысый, чем седой, подстриженный под лихой бокс с короткой мальчишеской челкой. Только когда он, завидев Василия Семеновича и меня, заулыбался, я разглядел на конопатом, не поддающемся даже местному солнцу лице, глубокие борозды, оставленные на нем всем пережитым, испытанным, выстраданным. Почти медная, вся в крупных коричневых веснушках шея была похожа на растрескавшуюся от палящего солнца землю. Широкая добрая улыбка обнаруживала отсутствие нескольких передних зубов, что, как было видно, нисколько не смущало ее обладателя.
- А мы все телеграмму от вас ждем, - проговорил он, подходя к столу и протягивая руку Василию Семеновичу. - Все ждем, когда пойдем встречать. Как же вы так? Мы бы толком подготовились. Все, как положено, было бы.
- Да что ты, Саша, - перебил его Василий Семенович, - ни к чему эти встречи! Зачем людей зря беспокоить! "Вот старый лицемер!", - подумал я, сразу вспомнив, как в поезде Василий Семенович мне "открывался": хотел, мол, было дать телеграмму, да раздумал. Нагрянем, мол, неожиданно. Проверим, не ездит ли кто на отремонтированной машине по своим делам. И все такое...
- Зачем зря беспокоить людей! - тряся руку хозяина, громче положенного говорил Василий Семенович. Затем, словно очнувшись, показал на меня: - Познакомься: мой водитель. - Хозяин пристально посмотрел мне в глаза и подал руку:
- Саша.
- Борис, - ответил я и мне стало как-то неудобно от этого "Cаша". Рука у него оказалась, как и он сам: крепкая и широкая, а глаза - цепкие, пристальные, светлонебесного цвета. Чтобы как-то скрыть свое смущение, которое, как мне показалось, не осталось незамеченным хозяином, я не нашел ничего лучшего, как сказать: - Ну и жара же у вас тут!
- Это еще совсем по-божески, - приятно улыбнувшись, ответил он и, снимая с себя на ходу через голову по-мальчишески рубашку вместе с майкой, направился к рукомойнику.
4.
Часов в одиннадцать, как раз в самое пекло, когда ни к чему металлическому и прикасаться-то было нельзя - запросто схлопочешь сильный ожог, как от домашней сковородки, - хозяин на своем видавшем виды белом "Москвичонке" лихо прокатил нас по малолюдному городку, распугав в двух местах что-то клевавших у дороги белых кур и вызвав недоуменный взгляд у серого симпатичного ослика, стоявшего в глубоком раздумье почти посередине проезжей части совсем недалеко от единственного в этом городке светофора, водруженного здесь, видимо, больше для солидности. Ознакомительная поездка завершилась тем , что мы свернули в какую-то боковую разбитую узкую, с глубокой колеей улочку, и после долгого петляния уперлись, наконец, бампером в крепкие железные ворота. Наш водитель, выйдя из машины, уверенно раскрыл ворота и вкатил нас в большой двор, напоминавший скорее небольшую стройку, чем жилое место. Я побыстрее выбрался из "Москвича", ощущая, что вот-вот на мне все заполыхает, Василий Семенович, кряхтя, последовал моему примеру.
Хозяева двора действительно строились: крепкий, современного проекта дом стоял уже под крышей, но для жилья была наспех приспособлена всего одна комната. В остальных пока не было ни окон, ни дверей, ни полов. Хозяин дома встретил нас без всякого удивления. О чем-то говоря по-своему с нашим "Сашей", он пошел с ним в дальний угол двора, скрытый от нас невысоким глинобитным строением с широкими полуоткрытыми створками деревянных ворот, напоминавшим не то гараж, не то мастерскую.
- Где это мы? - спросил я у Василия Семеновича, молча присевшего в тень у забора на полуразрушенный саман.
- Это Айдын, который мне делал машину, - неохотно ответил Василий Семенович.
- И где же она? - я желал поскорее познакомиться с тем, на чем мне предстояло добираться домой не один день.
- Здесь, у него. - Василий Семенович отводил в сторону глаза и это мне не очень нравилось. Я замолчал и стал ждать. Молчал и Василий Семенович.
Прождали мы недолго. Это обстоятельство, быть может, и предохранило меня от солнечного удара: пекло стояло такое, что казалось, под ногами - чудовищная духовка, а о солнце я уже не говорю. Во дворе перед домом, кроме следов незаконченного строительства, в углу еще ютилась "времянка", кое-как из чего попало слепленная уборная, добавлявшая в застоявшийся, обжигающий лицо воздух свой специфический "парфюм", который никогда ни с чем не перепутаешь. "Саша" с Айдыном появились из-за строения оба недовольные друг другом, обмениваясь на ходу короткими репликами и резко жестикулируя руками. Было видно, что Василий Семенович забеспокоился. Он встал и пошел им навстречу, но потом остановился, с неприкрытой тревогой в глазах ожидая, когда те двое подойдут. Уже приблизившись к нам, оба продолжали о чем-то страстно спорить, часто при этом выбрасывая в пышущее жаром пространство не уступающее ему по накалу слово "йох". Вдруг оба неожиданно стихли и хмуро посмотрели на нас с Василием Семеновичем, как бы приходя в себя.
- Ну, как, урус, нэ сгарэл ишшо? - недобро глядя на меня, спросил Айдын. Это был довольно молодой с неделю небритый парень с большими нахальными черными глазами и крепкими рабочими руками. - Зачем, ара, так далэко эздишь? Нэ баишься?
- Нэт, - тон ему ответил я, - нэ баюсь да.
- В общем, - вмешался в наш интернациональный диалог "Саша", обращаясь к Василию Семеновичу, - придется подождать до вечера: машина не готова. Надо кое-что доделать по ходовой части. Но придется ему, - он повел глазами в стороу Айдына - кое-что доплатить. И вечером он сам пригонит машину ко мне. - Было видно, что это сообщение не вызвало особо большого энтузиазма у Василия Семеновича, но деваться было некуда, и он обреченно мотнул в знак согласия головой, от которой, по-моему, уже начинал куриться легкий дымок. Не солоно хлебавши, мы отбыли восвояси. Но "Саша" решил хоть немного подсластить пилюлю и молча вместо дома привез нас на берег Аракса.
- Скупнитесь, - буркнул он виновато, остановив машину у самой кромки покрытого зеленой травой берега и шустро выбираясь из своей раскаленной духовки. Мы стали молча вылезать вслед.
Оказавшись на берегу, я с удивлением смотрел на столь известную мне и казавшуюся такой загадочной пограничную реку Аракс, героиню читанных-перечитанных мною шпионских рассказов. Это была невзрачная неширокая речушка с глиняными пологими берегами и мутной водой, по обоим берегам которой не было видно ничего пограничного. В свое время я три года пробегал (бег - основной вид физподготовки в погранвойсках) по границе и не понаслышке знал, что тут должно было бы быть. Но ничто не напоминало мне, что это государственная граница, что там, на другом берегу, в нескольких десятках метров отсюда - другая страна: Иран. Мирно паслось несколько осыпанных репьями коз, да один единственный черный ишак бесстрастно глядел на ту сторону, лениво обмахиваясь грязным хвостом от наседавших мух. Купаться мы не стали: уж больно грязная вода. Молча побродили по зеленой травке - диковинке в это время года в здешних местах: в мае тут уже все начисто выгорает и становится желтокоричневым. Потом каждый, думая о своем, полез в горячий "Москвичок".
К вечеру Айдын прикатил на белом ..."новом Запорожце"! Вот это автомобиль! Когда Василий Семенович мне рассказывал о купленном им лично, а разбитом его Славкой автомобиле, было понятно без перевода, что это была если не иномарка, то, по крайней мере, почти черная правительственная "Волга". А тут этот "горбатый", который иначе никто никогда и не называл, отчего я могу смело дальше писать его марку без кавычек, ибо она - имя нарицательное! Никакие рихтовка с покраской не могли скрыть недавнее печальное прошлое этого неудачника от рождения. Это прошлое выпирало отовсюду. Однако же Василий Семенович сразу повеселел, обнял за плечи подошедшего к нему улыбающегося Айдына и повел того в комнату, куда нас на время пристроили хозяева. "Расплатиться и угостить порядочным коньячком пошел, хотя впору бы зарыдать", - подумал я. "Похоже знал, в каком виде получит славкину машину, а мне прямо противоположное заливал! Ну и гусь!".
Какая-то подспудная тревога начала просыпаться во мне. Как я поеду по Кавказу и через полстраны на этом драндулете? Да ему же даже по внешнему виду дальше утильсырья и соваться грех! Пока я сидел в теньке и думал свою горькую думу, Василий Семенович с Айдыном вышли из комнаты во дворик в хорошем "навеселе". Казалось, что вот-вот кто-либо из них затянет во все горло свою родную, задушевную. Но этого не случилось: Айдын на прощанье обнял Василия Семеновича и что-то крикнул на своем гортанном языке хозяйке, стоявшей тут же, во дворике, и собиравшейся поливать его водой. Потом исчез, громко хлопнув тяжелой дверцей железных ворот. Василий Семенович, не обращая на него внимания, тут же подошел к "Запорожцу" и принялся любовно поглаживать его своей нетвердой рукой по скверно окрашенной бугристой крыше...
Утром ни свет ни заря мы были уже на ногах. Все что надо было, уложили в "Запорожец", наскоро позавтракали: хозяйка и слышать ничего не хотела, пока мы не съели по приличному куску жареной свинины и по два крупных яркокрасных свежих, с грядки, помидора. Попрощались. Хозяина не было дома: ушел еще до нашего подъема. Я сел за руль, завел мотор и стал задним ходом выезжать на улицу через предварительно открытые хозяйкой ворота. Чтобы преодолеть небольшой подъем от дворика до проходившего в двух метрах от ворот шоссе, "Запорожец" так взревел, что, похоже, поднял на ноги в эту рань половину сонного городка. По крайней мере, сквозь шум двигателя я услышал, как вдруг дурно замычала соседская корова...
- Поедем на Кюрдамир, - спокойно сказал мне Василий Семенович, когда мы начали выезжать из городка, и повернулся, как ни в чем не бывало, смотреть в окно. Он желал любоваться местным пейзажем. Я от неожиданности нажал на тормоза, и машина тут же заглохла.
- В кк-ак-ой Кюрдамир? - оторопело спросил я. - Мы же договорились ехать через Баку?
- Нам надо ехать в Кюрдамир, - Василий Семенович, как обычно, отводил глаза в сторону, - там у меня есть знакомые на станции технического обслуживания.
- Ну и что? - Машина стояла, но асфальт в это ранне утро уже начинал плавиться и имелся риск прилипнуть к нему колесами навечно. - Причем тут СТО? Вы же сказали, что все в порядке и даже угощали коньяком этого абрека!
- Да, но кое-что надо бы еще подправить. Дорога долгая... - Василий Семенович, как всегда, темнил.
- Вы же говорили, что в машинах ничего не понимаете.
- Не понимаю, - согласился Василий Семенович, - но подстраховаться не помешает.
- А дальше? - меня обуревала злость, - дальше куда?
- А дальше, - как ни в чем не бывало отвечал Василий Семенович, - дальше - через Кавказский хребет по Военно-Грузинской дороге к Черному морю. Поваляемся там на песочке, - при этом он мечтательно забросил руки за голову и сладко потянулся. - Там - девочки. У меня деньжата есть. Ты ведь - в отпуске... - "Вот козел! - во мне все кипело. - я так и думал, что он что-нибудь отмочит, но такое... Девочки ему... Скотина!" - я чуть было не выдал все это вслух. Договаривались ведь ехать тихо-мирно через Баку-Дагестан-Ростов. Моря ему захотелось! На этом-то горбыле! - Уже вслух закричал я.
- Ничего, ничего! Вот заедем на СТО в Кюрдамир. Потом у меня в самом Кюрдамире есть еще кое-какие дела. Денек там побудем и - вперед! - Василий Семенович не отступал, и я понял, что эта акция спланирована не сейчас, не спонтанно, и что я вляпался, как говорят, по самую макушку. Отступать было некуда: бросать все посреди дороги, добираться до станции, в такой жаре ждать целые сутки поезда, потом сколько в нем еще трястись до Баку... а там в это время билета на самолет ни за какие коврижки не достать. Поэтому могу опоздать на работу. И насколько - еще не известно. Все рассчитал Василий Семенович. Стратег. Я с яростью врубил сразу вторую и что есть силы нажал на газ. Наш несчастный инвалид от такого безобразия по-дурному взревел, но не заглох, и, еле-еле оторвав от липкого асфальта свои рахитичные колесики, натужно побежал к таинственному городу под названием Кюрдамир.
Да не тут-то было. По мере того, как мы все дальше и дальше отдалялись от городка с его старшим егерем, у меня, а точнее, у этого несчастного, все больше и больше вело руль вправо. Я попробовал поделиться этой новостью с Василием Семеновичем. Он отреагировал преступно беззаботно:
- Вот доедем до Кюрдамира, там и поправим. - И продолжал наслаждаться ранним летним утром, и, как мне думалось, предвкушением удовольствий на черноморском побережье. "Дался ему этот Кюрдамир", - уже тревожился я, поглядывая на километровые столбы. Отъехали километров двадцать, а до благословенного Кюрдамира оставалось еще несколько раз по столько. Руль попрежнему тянуло вправо. И с каждой минутой все сильнее и сильнее. Я решил остановиться и посмотреть, хотя бы приблизительно, в чем там дело. Дело в том, что у нашего рысака в отличие от других, менее амбициозных автомобилей, имелась, мягко выражаясь, одна существенная конструктивная особенность: у нашего все брюхо было закрыто металлическим щитом. Вполне можно предположить, что кудрявая конструкторская мысль прочила этому чудовищу преодоление водных и огневых преград, а может предполагалось, что он должен будет выдерживать взрывы крупных иностранных фугасов, с помощью которых всякие там наемники попытаются разрушить нерушимую дружбу украинского и русского братских народов. Вполне возможно. И не зря поэтому это чудо техники получило у автолюбителей почетную кличку "Броневик". Многие уточняющие эпитеты я здесь из личной скромности опускаю. Так что в нашем с Василием Семеновичем интересном случае подобраться к деталям снизу, имея под собой уже начинающий пузыриться от жары асфальт, становилось делом не совсем простым. Но оказалось, что и подбираться-то никуда и не надо. Пригнувшись, я сразу увидел, что правое переднее колесо сильно косило. Не скажу, правда, что как Савелий Крамаров, но что-то вроде этого. И терлось, обо что ему не полагалось. Уже почти из-под шины стала показываться камера.
- Все! - сказал я почти радостно Василию Семеновичу, - дальше не поедем. Разобьемся. А на таком асфальте заниматься ремонтом вам никто не станет. Поворачиваем назад. Пусть ваш абрек приводит машину в порядок, как полагается. Хорошо, если назад-то доедем без приключений.
Но тут Василий Семенович проявил вдруг недюжинную настойчивость и даже грубость. Несмотря ни на что, он требовал доехать до вожделенного Кюрдамира хоть на одном колесе, что, де, у него там может сорваться важное дело, что... Он требовал и угрожал, умолял и негодовал. Плевал, мол, он на всякие страхи. Потихоньку-помаленьку доберемся. Может, по дороге попадется какая-нибудь автомастерская, может... В общем, надо ехать!
Но, как оказалось, судьба наша ждала нас как раз не в Кюрдамире. Уже махнув на все рукою, я забрался в нашу "Антилопу-Гну" и принялся включать первую скорость, уже обрадованный Василий Семенович, довольный, заглядывал мне в самые глаза... Раз! Раз!... Еще раз!... Скорость не включается. Жду немного. Повторяю процедуру... Никакого результата! Немного напрягшись, пытаюсь включить вторую. То же самое! То-же-са-мо-е! На ровном месте! Останавливались нормально, выключил двигатель, перевел на нейтральную, поставил на "ручник". Никаких намеков не было, что случится такое! Высшие силы! Значит, не судьба! Что же делать? Начинаю из простого любопытства включать сразу третью. Раз... Раз... Не идет. Раз... Включилась! Снова все - на нейтральную и снова начинаю с первой. Тот же результат! Включается только третья передача! Снова выключаю двигатель, даю "звэру" отдохнуть и повторяю попытку... Нет! Все равно включается только третья скорость. Гляжу на Василия Семеновича, молча наблюдающего за моими стараниями. По глазам вижу, что он, наконец, понял, что на этом "звэре" мы можем добраться разве что только до ближайшей канавы, но не до столь желанного ему Кюрдамира.
- Все, - тяжело выдавливает из себя Василий Семенович, - поехали назад.
- А как? - спрашиваю я его. - Мы с третьей скорости с места не сдвинемся: двигатель сразу заглохнет.
- Не знаю, - кисло отвечает Василий Семенович, - надо ехать назад.
- Легко сказать! Ладно, - говорю я, - надо попробовать как-то возвратиться, не то через некоторое время от нас на этом месте и так останется одно воспоминание: просто испаримся среди этой пустыни под таким солнцем. Поехали бы в сторону Баку, так там хоть лес мог бы спасти. А тут одна голь. Все вокруг выжжено да асфальт пузырится. Ладно, попробую. Куда ж деваться!
Врубаю третью и что есть силы жму на газ, чтобы "броневик" не успел заглохнуть. Сработало! Несчастный тут же бешено рванулся в сторону Кюрдамира. Но нам уже туда не надо. Нам нужно в городок, откуда так неудачно сегодня началось наше авантюрное путешествие. А как ты возвратишься в этот городок даже с уже совсем сникшим Василием Семеновичем, когда ты бешено прешь вперед на третьей скорости? Как ты развернешься на узкой дороге, хотя и совсем пустынной в это раннее время? А случись что, так некому и помочь! Пустыня! Кто же ездит в этот дурацкий Кюрдамир, если за все километры наших утренних мучений мы не встретили на своем пути ничего движущегося, кроме встречного горячего воздуха? Может, доехать до какой-нибудь развилки или до места, где дорога станет пошире и там попробовать развернуться? От этих дум я уже перестал чувствовать, что руль тянет вправо. Не до него, родимого! Как бы развернуться да не перевернуться! А наш красавец ревет, что есть мочи, и несется в сторону Кюрдамира!
Кричу Василию Семеновичу, что, дескать, он тут, наверное, не впервые, что, мол, должен тогда знать эту дорогу. Сколько еще нам мчаться до ближайшей развилки или чего-нибудь в таком роде? Но совсем сникший Василий Семенович не знает. По нему заметно, что ему уже не хочется к шоколадным девочкам на черноморский пляж. А правое переднее все-таки трется и трется, и руль все сильнее тянет вправо и вправо. Удерживать его становится тяжело...
Наконец, завидев впереди небольшое расширение дороги, решаюсь сделать разворот, иначе куда нас занесет этот шедевр технической мысли настырных земляков недавно мирно усопшего Леонида Ильича, один Бог знает. На всякий случай приготовился затормозить...
Поехали назад! Получилось! Наше чудо даже не попыталось перевернуться на такой скорости! Вписались точь в точь в полотно дороги! Все!
Василий Семенович сразу заметно повеселел, заерзал, о чем-то заговорил. Но я его не слушал из-за всех наших треволнений, а думал лишь о том, как бы побыстрей добраться до нашего городка. Отмахали-то мы вперед километров двадцать пять! Чтобы быстрей ехать, решил попробовать включить четвертую. Рисковал, так как наш автогерой мог не включить четвертую, но и уже не дать вернуться на третью. От этого дикобраза можно было ожидать всего. Но четвертая спокойно включилась ("Благодарю Вас, Броня!") и наш мучитель побежал к дому значительно резвее.
Но тут, как на грех, навстречу начал попадаться транспорт. Разъезжались мы с ним на нашей четвертой безо всяких проблем. Но вот впереди показался трактор с прицепом, который уже ехал с нами в одну сторону. Ехал он, сами понимаете, как мог, и поэтому очень быстро надвигался на нас. Обгонять его нельзя было, так как при этом надо было выезжать на встречную полосу движения, но как раз именно в этот момент по встречной несся какой-то джигит. Тут я попытался как-то, притормозить, перейдя на третью скорость, но та, собака, никак не включалась! Не включалась и все! Как ни пытался я ее врубить - глухо! Не зря я опасался, что, пытаясь перейти с третьей на четвертую, могу получить очередной сюрприз от нашего Конька-горбунка. Так и случилось! Трактор неумолимо приближался. Но Бог нас хранил в эти минуты: джигит по встречной молнией пронесся мимо нас и освободил полосу: мы благополучно обогнали тарахтящий своими железяками трактор.
И вот впереди показался городок. Но как же по нему мчаться на такой скорости? Там не то, что трактор с прицепом, но и корову, а еще хуже - упрямца ишака встретишь. Их на скорости уже не объехать. Я старался не думать об этом, хотя... Тормоза ведь пока работают, поэтому в случае чего, заторможу, а если чудо заглохнет, то с четвертой его уже никогда не сдвинуть с места и придется пешком добираться да спасительного домика старшего егеря, который уже там что-нибудь придумает. В общем, как-нибудь там на месте выкрутимся. Оставался нерешенным вопрос: пусть мы как-то проскочим в городке. Но чтобы попасть к дому егеря, надо поворачивать направо на единственном регулируемом (со светофором) перекрестке. Надо же так не везти! В этот день просто все лепилось одно к одному! Будь, что будет! В конце концов и там можно заглушить нашего дьявола!
Все же судьба продолжала к нам благоволить, хотя кто-то свыше в "лице" нашего конька продолжал нам ставить палки в колеса: чудом на бешеной скорости мы проскочили полгородка, успешно обгоняя все встречавшееся на нашем пути, а когда подъезжали к злополучному перекрестку со светофором, загорелся зеленый. Слава Тебе, Господи! Чуть притормозив, с визгом повернули мы направо и, промчавшись еще метров триста, обессиленно остановились у знакомых ворот...
Едва мы вошли во дворик, оставив нашего красавца на улице, как все домашние, как горох, высыпали нам навстречу. Оказалось, что хозяин уже был дома и, несмотря на еще раннее утро, находился уже в приличном подпитии. Сразу вспомнилось, как вчера он завел меня в свою комнату и демонстрировал "царские подарки", врученные ему, простому егерю из приграничного захолустья, великими советскими руководителями и военначальниками, которых он лично обслуживал на "царских охотах". После удачной охоты - а неудачной быть не полагалось, иначе бы егеришке не сносить своей головы - после удачной охоты при костерке и за шашлычками со знаменитыми коньяками даривали они ему, великие, разнообразные охотничьи ножи - настоящие произведения искусства с дорогими инкрустированными рукоятками, изготовляемыми, как и все для этого круга людей, по спецзаказам и, похоже, совсе не за их личный счет. При такой работе да с утра не быть в подпитии - большая проблема.
- Что случилось, Василий Семенович? - тараща на нас свои, уже непокорные ему самому глаза, просипел хозяин. - Забыли чего? - в глазах его жены, снохи, сына и малышей я увидел тот же вопрос. Наступила немая сцена. Я не стал объясняться, давая возможность Василию Семеновичу самому все рассказать. Тот, видимо, еще окончательно не пришел, как следует, в себя и молчал. Но через мгновение довольно импульсивно начал:
- Знаешь, Саша... - "Ну все! - подумал я, - сейчас он меня отделает за мое шоферство, за то, что сорвал ему, как я понял, какую-то важную сделку в Кюрдамире..."
- Знаешь, Саша! - громко повторил Василий Семенович, - а Борька-то - настоящий герой!
Меня резануло его фамильярное "Борька": сколько лет мы были знакомы, он всегда разговаривал со мной с известной долей почтительности, хотя и на "ты". "Разволновался, видно, совсем, старый, - подумал я в его оправдание".
- Борька? - хозяин, как мне показалось, внимательно посмотрел на меня протрезвевшими цепкими глазами, будто впервые меня увидел. "Вконец забыл спьяну, как меня зовут! Ладно, бывает!", - решил я.
- Борька - настоящий герой! - начал опять с большим пафосом Василий Семенович. - Я думал: все! Разобьемся насмерть на этом драндулете, но Борька...
- Да ладно вам, Василий Семенович, вгонять меня в краску! - я взял его за рукав, - ничего особенного-то и не было. Всегда можно было затормозить. Тормоза-то ведь работали! Перестаньте! - Но Василий Семенович, похоже, очень долго был сжат в болезненный комок, сжат, как стальная пружина. Натерпелся, бедняга, за недолгое наше путешествие на горбатом. Хотя вида не подавал. Но сейчас раскручивался и раскручивался и удержать его было невозможно.
- А наш папка тоже герой! - вдруг неожиданно ревниво перебила Василия Семеновича хозяйка. - Он в войну один немца убил.
- А где вы воевали? На каком фронте? - обратился я к хозяину больше для того, чтобы поддержать хозяйку и тем самым застопорить хвалебную тираду Василия Семеновича в мою честь.
- На каком там фронте! - хозяйка досадливо поморщилась. - Пацаном он еще был. В оккупации.
- Так вы не местные? - удивился я. - По-азербайджански, я вижу, у вас все говорят.
- Конечно, не местные. После войны, как поженились, приехали сюда на заработки. У нас там все разбито было. Вот и живем здесь, - как-то виновато заключила хозяйка и развела руками. Между тем хозяин почему-то глядел и глядел на меня, не мигая, и я начал испытывать какое-то смутное беспокойство.
- А откуда, если не секрет, вы приехали? - продолжил я спрашивать, теперь уже желая как-то уйти от неприятного пристального взгляда хозяина.
- Да какой же тут секрет! Из предгорной Кубани. Там такие леса! Саша там на егеря и выучился.
- А вв-ы, случайно, не из... - Я интуитивно назвал поселок, в котором провел свое детство у бабушки. - Там у нас в конце войны один парень вернулся с фронта, зашел в гости к своей бывшей учительнице, посидели, выпили, вспомнили довоенные годы, а потом он ее решил ограбить: захотелось еще выпить, а денег не было. А попросить, как потом признался, постеснялся. Когда собрался уходить, она пошла вперед: дверь ему открыть, а он выстрелил ей в затылок! Забрал, что нашел: из ценных вещей - один единственный полушубок. И тут же подался в ближайший ларек обменивать на водку. Там его и застукали.
- Точно! - вскричала хозяйка, - точно! А когда соседка учительницы, услышав выстрелы, побежала узнать, в чем дело, он и ее застрелил, паразит. Прямо на ступеньках крыльца...
... Я вдруг вспомнил длинноногого немца и хрипло визжащую упирающуюся свинью, и глянул на хозяина: Саша. Герой. Убил немца...
- Э-э-э...
- Борька! Братка! Качан тебе в лоб! Братка! - хозяин прыжком кинулся ко мне, и я оказался в его крепких объятиях. - Братка! - плакал мне в ухо сильно постаревший Сашка, - братка мой...
Кишинев-Баку-Кишинев, 1983-2001 г.г.
Он собрался умирать
1.
Он собрался умирать. На дворе был конец мая и поздний душный вечер только способствовал его желанию. Он рано лег в постель, но его общее состояние становилось все хуже и хуже. Сегодня он еле-еле добрался с работы домой и почти на карачках влез на свой девятый этаж: лифт уже более года был отключен за неуплату всего несколькими квартирами и как раз теми, кто проживал на нижних этажах. За тринадцать лет эксплуатации их дом, в который после его сдачи в эксплуатацию была заселена сплошь одна беднота из бывшей на месте застройки городской окраинной магалы, их панельный дом за эти годы облупился и облез, как старое неухоженное животное, как и его нынешние в конец обнищавшие обитатели, и поэтому очередную неприятность принимал смиренно и обыденно. Похоже, отключение лифта случилось навсегда, так как никто из неплательщиков и не собирался погашать долги, а местным властям было не до чужих разборок. Они и со своими-то не успевали справляться: одни выборы накатывали на другие, верхняя "крыша" менялась непредсказуемо и балансировать, чтобы как-то удержаться на плаву, становилось все труднее и труднее. Какой там лифт в каком-то зашарпаном доме! Еще сегодня утром он, готовясь идти на работу, ничего тревожного в себе не заметил: побаливала, как и много раз до этого, голова и чувствовалось небольшое недомогание. Он отнес это на счет большого переутомления, которое испытывал на работе. Их предприятие с потрохами купила одна крупная иностранная фирма и теперь всем сотрудникам пришлось сразу забыть и про восьмичасовой рабочий день, и про чуть ли не еженедельные дни рождения, которые пышно отмечались в рабочее время, и про многое другое: теперь он уходил на работу в семь утра, а приходил в половине девятого вечера. Каждый день. Каждую субботу. И не успевал восстановиться за теперь казавшееся столь коротеньким, воскресенье. А впереди совсем не наблюдалось никакого продыха. Но он не роптал, а благодарил Бога за то, что не выгнали на улицу, несмотря на его уже двухлетний пенсионный стаж.
При старом руководстве ему приходилось каждые два месяца после выхода на пенсию писать слезные просьбы своему начальству о продлении с ним контракта, чтобы не умереть потом с голода вместе со своей бабушкой, ибо их общая пенсия в сумме составляла аж двадцать долларов в пересчете на твердую иностранную валюту, в то время как только за коммунальные услуги надо было ежемесячно платить пятьдесят. Потом, когда отправившись на работу, он осторожно спустился со своего птичника во двор, вышел на его залитый ранним веселым солнцем простор и направился было к троллейбусной остановке, его вдруг так зашатало и затошнило, что он упал на одно колено и судорожно ухватился за стоявшее рядом тоненькое чахлое деревце, едва не сломав его. Тяжелая зеленая тошнота подступала к самому горлу и в глазах появилась какая-то кружевная темнота: темная-темная сетка с яркими светлыми неровными дырочками, через которую все поплыло, поплыло. Держась обеими руками за спасительный стволик, он попытался сразу потихоньку приподняться с колена, зажмурив при этом глаза. Это ему удалось только со второй попытки. Но встав на обе ноги, он все еще боялся отпустить деревце: голова кружилась и тошнота не отступала. Он было подумал немного постоять, пока его не отпустит, да вернуться домой, но отверг эту мысль: надо идти вперед, на работу. Во-первых, он уже не сможет подняться пешком на свой девятый этаж в таком состоянии и где-нибудь на четверти пути его хватит Кондратий. Во-вторых, даже если бы он каким-то чудом и добрался бы до постели, то это тоже ничем хорошим ему не светило: он был в доме один-одинешенек. Уже почти месяц, как жена была в отъезде. В российском северном районном захолустье их дочь, сбежавшая туда с маленьким ребенком и мужем от тутошней безработицы, наступаюшего голода и под местные крикливые лозунги "Чемодан-вокзал-Россия", их дочь собралась подарить родителям вторую внучку. Поэтому, обдумав всю ситуацию, он решил, что как-нибудь пойдет на работу. Постояв некоторое время в позе раннего утреннего пьяного и немного при этом оклемавшись, он нетвердой походкой поплелся к выходу со двора...
На работе, сидя за компьютером, он кое-как протянул время, принимая в течение дня разные таблетки, которые постоянно носил последние лет десять с собой, но в половине пятого почувствовал, что дело принимает, несмотря ни на какие лекарства, дурной оборот, кое-как отпросился у начальства, еле-еде на двух маршрутках добрался до своего дома и буквально прополз все девять этажей по лесницам, цепляясь за их грязные, местами совершенно липкие, перила. Оказавшись, наконец, в квартире, рухнул, не разоблачаясь, на аккуратно заправленную утром постель. Немного полежал, отдышался, потом снял с себя верхнюю одежду, шатаясь подошел к письменному столу, выдвинул второй сверху ящик, в котором хранились семейные медикаменты, и достал термометр. Сунул его под влажную подмышку и тихонько опустился на постель. Прилег. На часах было полшестого. Минут через пять вынул термометр и попытался разглядеть, что там набежало. Но без очков это никак не удавалось Отложив термометр, кряхтя, встал с постели, и, держась по пути за все, что попадалось под руку, поплелся в другую комнату за очками. Таким же способом вернулся с очками назад, взял с постели в дрожащие руки термометр, надел очки... Термометр показывал 38.7. Решил проделать другую процедуру: измерить давление. Но сил уже не оставалось. Кое-как разделся, а затем, обругав себя за бестолковость, опять пошел к письменному столу и достал аспирин. Ноги дрожали и не слушались.
Как он дошел до кухни, запил таблетку аспирина холодной кипяченой водой и вернулся назад, помнит плохо. Очнулся уже в постели. Часы показывали семь. Солнце еще ярко било через наполовину задернутые шторы и со двора слышался гомон ребятни, гонявшей мяч. Полежал немного с закрытыми глазами, а потом начал полегоньку медленно вставать. Когда это ему удалось, медленно пошаркал в другую комнату за тонометром. Голова кружилась и подташнивало. Пронес на кухню тонометр и долго возился, прилаживая его на левую руку. Приладив, наконец, принялся качать грушу. Каждый качок больно отдавался в голове и в ушах. Ничего себе: двести двадцать! По идее надо было вызывать "Скорую". Но как только вспомнил всю эту процедуру, да еще будучи один в квартире! Нет, ни за что!
Полтора года назад, зимой, с ним случилась беда: перед этим долго болели почки, несколько дней он лежал в постели и вдруг началась сильная рвота. В желудке обнаружилась кровь. Они с женой вызвали "Скорую". Приехали быстро. В квартире появилась молоденькая врач в сопровождении мрачного парня-санитара, с которым она, на удивление, разговаривала по-русски. Кое-как собрались и жена, маленькая пожилая женщина, вдвоем с врачихой под руки тащили его, почти не переставлявшего ноги, с девятого этажа к машине. Санитар молча следовал за ними, ни разу не притронувшись к процессии. Когда, наконец, подошли к машине, никак вдвоем не могли его поднять на ступеньки и втолкнуть хотя бы вовнутрь. Шофер сидел за баранкой и любовался ночным лунным небом, а санитар злобно наблюдал за всем происходящим. Наконец, не выдержав, санитар, грубо приподняв сразу обоих, его и жену, брезгливо забросил их, как какое-то отребье, в салон, что-то по-своему буркнув себе под нос. От удара об пол и от наступившей сильной боли в пояснице, он громко застонал и попросил санитара, мол, нельзя ли полегче. На это на ломаном русском получил злобный ответ: все, мол, ясно: слишком нежные. Жена было принялась увещевать санитара, что муж, де, не может сам влезть в машину, совсем ослаб. К тому же у мужа, кажется, кровотеченье в желудке. Санитар брезгливо перевел взгляд с жены на него, пытавшегося забраться на холодное длинное сидение, и спросил:
- Ты что, действительно срал кровью?
Пока ехали в больницу на другой конец города по ухабам и ледяным кочкам, машину сильно трясло и он каждый раз громко стонал от нестерпимой боли во всем теле. Санитар при этом тоже каждый раз, переходя на крик, требовал спокойствия и тишины, тараща в его сторону свои черные ненавидящие глаза. Когда же прибыли в больницу, санитар на виду у толпившихся у приемного покоя людей, молча переложил его в подкатившую из отделения каталку. На том и распрощались. Далее врач, и до этого не проронившая ни слова, молча вылезла из машины и ушла куда-то с бумагами, а его в каталке вместе с растерянной женой оставили посреди холодного неприятного вестибюля, двери которого были настежь открыты на улицу. Холод, естественно, был почти такой же, как на улице, и несколько таких же, как и он, бедолаг, томились в каталках, обнаженные и кое-как чем попало прикрытые, окруженные своими близкими и родственниками. Большегрудые тостые немолодые санитарки в замызганых халатах, поверх которых были накинуты синие телогрейки, царствовали в этом почти траурном холодном помещении, донага немилосердно раздевая поступивших к ним несчастных, и строгими голосами отдавали команды их обеспокоенным и бессловесным сопровождающим. Затем решительно раскатывали каталки в разные стороны по только одним им известным маршрутам. Сопровождающие молча бежали вслед со своими одеялами, подушками и другим наспех захваченным дома скарбом, которым должен быть снабжен каждый больной в современной больнице в этой столице небольшого европейского государства в последний год двадцатого века.
Все это он вдруг ясно увидел и решил: - Нет! Не поеду! Будь что будет! Да и некому его сопровождать в это морильное заведение. Некому за ним везти туда весь необходимый в таких случаях домашний скарб, некому там его караулить в недобром холле, некому раздевать его и некому оставлять его одежду, объясняться с толстогрудыми грубыми и неопрятными санитарками. Некому! Все! Он остается дома!
... Становилось все хуже. Начало болеть сердце. Он снова с трудом на дрожащих непослушных ногах проделал длинный путь за лекарствами, за водой, чтобы их запить. Одновременно думал, не позвонить ли жене с дочерью. Но как представил себе их встревоженные лица, да еще дочка вот-вот должна родить... Да и что они смогли бы сделать за две тысячи кмлометров отсюда? Чем могли ему помочь? Нет, не надо их беспокоить, ни к чему. Он подошел к тяжелой металлической двери и отодвинул задвижку, на которую дверь закрывалась: если что-то с ним случится, смогут попасть в квартиру. Первую же, из прессованной ваты, дверь закрыл на замок: ее всегда можно легко вышибить ударом ноги. Так предусмотрено проектом этого дома. На всякий случай готовился... Затем улегся в постель, укрывшись с головой простыней. Закрыл глаза...
Разбудил его резкий телефонный звонок. Аппарат стоял у изголовья и ему, никак не могущему проснуться, показалось, что он сошел с ума: стоял такой трезвон, а он никак не мог размежить веки. По подбородку стекала сонная слюна, руки - ватные, голова - неподъемная. Зуммер настойчиво верещал. Он еле дотянулся до трубки и снял ее.
- Алло! - хриплым, не своим голосом почти прошептал он в трубку. Слюна все еще стекала по подбородку, и он пытался ее стереть непослушной сонной рукой.
- Алло! Слушаю!
- Эй ты, соня! Все проспал! Дрыхнешь, а у тебя вторая внучка родилась! Поздравляю!
- Спасибо, - машинально ответил он, - а в чем дело?
- Как это в чем дело! Вот ненормальный! Ты понял, о чем речь идет? Дрыхнешь, а у тебя вторая внучка родилась! - радостно повторил предыдущую фразу незнакомый голос в трубке. - Да проснись же ты! Всего-то - одиннадцать!
- Какая вторая внучка? - он никак не мог врубиться в смысл этого уже для него ночного звонка и продолжал размазывать липкую слюну по бороде. Он собрался умирать, а тут...
- Про-о-о-о-снись! - голос становился настойчивее. - Про-о-о-о-снись!
До него понемногу стал доходить смысл сказанного, но он никак не мог понять, откуда и кто звонит. Голова понемногу начала проясняться, и он как-то сразу забыл про то, к чему готовился еще засветло. В комнате стояла сплошная темь, иногда нарушаемая бликами проезжавших мимо дома автомобилей. Не выпуская трубки из рук, он как-то легко соскочил с кровати и включил свет. Действительно, было одиннадцать с небольшим. Внучка родилась! Ну, наконец-то! Он вспомнил, что жена звонила несколько дней назад и сильно беспокоилась, что дочка уже "переходила". Наконец-то!
- Алло! - слышалось в трубке, - алло!
- Алло! - сказал он, поднося трубку к уху, - я, кажется, проснулся, извините. А кто вы?
- Да ты что? - слегка возмутились на том конце. - Как же ты собирался на мне жениться? Уже забыл?
- Я? - у него снова начала болеть голова. - Когда? - задавал он не совсем подходящие вопросы трубке.
- А пятый курс помнишь?
- Простите, вы, кажется, ошиблись номером, - проговорил разочарованно он, собираясь положить трубку.
- Погоди, погоди! Не клади трубку! - как будто увидели все происходящее на том конце. - Вот ненормальный! Не клади трубку! -он, подчиняясь, снова поднес трубку к уху:
- Да?
- Ты что! Никогда не учился на физмате и не ухаживал за одной черноглазой студенткой? Мы же прошлой осенью встречались на тридцатипятилетии со дня окончания!
- А-а-а! - наконец, проснулся он, - вот так звонок! Как же ты меня нашла? И вообще: откуда ты про все знаешь?
Про свое недавнее плохое состояние он сейчас и не помнил. Зато вспомнил их осеннюю встречу. Из двух групп бывших выпускников организатору, тоже их бывшей однокурснице, едва удалось собрать человек восемь. Не обошлось и без курьеза. Когда к назначенному по телефону сроку и месту - одному небольшому кафе на окраине города в непрестижном районе - начали собираться бывшие однокашники, смеху было невпроворот: никто никого не мог сразу узнать, несмотря на то, что все эти годы все жили и работали в одном городе и иногда даже перезванивались. Все сильно постарели и изменили свои формы. Значительно. Ждали организатора, которая, неизвестно почему, задерживалась. Ждали, ждали и начали беспокоиться: сюда ли надо было приходить?
Само место встречи представляло собой старое зашарпанное здание бывшей рабочей столовой времен начала пятидесятых и с тех далеких времен, похоже, ни разу не беленное. По обоим бокам здания находились две пристройки - забегаловки. Правая забегаловка была открыта и там находилось несколько посетителей, лениво потягивающих пиво. Левая была закрыта изнутри. Окна ее были зашторены белыми кружевными занавесками. Все пришедшие на встречу, еще не отошедшие от неожиданных ощущений, возбужденные, в тревоге, что не там собрались, гурьбой подошли к правой, открытой, забегаловке и принялись наводить справки: не тут ли состоится встреча старых выпускников? Вышедший им навстречу важный молодой парень, похоже, бармен, лениво ответил, что не знает ни о чем подобном. Тогда все гурьбой направились к левой, закрытой, забегаловке и попытались заглянуть внутрь. Из-за штор ничего увидеть не удалось. Попытались скромно постучать в железную коричневую дверь. Никто не вышел. Снова гурьбой отправились в правую забегаловку выяснять отношения. Тот же парень теперь мялся, мялся и, наконец, под большим секретом сообщил, что, мол, закрытая левая забегаловка стоит с накрытыми столами и подготовлена к каким-то поминкам. Ждут только, когда народ вернется с кладбища...
В конце концов, минут через двадцать появилась их организаторша, в которой все с большим трудом еле узнали свою бывшую однокурсницу, даже бывшую старосту. Та решительно повела собравшихся к закрытой левой забегаловке: поминки имели быть состояться...
На "поминках" он был с ней за столом рядом, на что он тогда не обратил ровно никакого внимания: как и все пришедшие, он был полон нахлынувших воспоминаний молодости. Собравшиеся громко и невпопад похохатывали, вспоминая отдельные, ранее казавшиеся совсем незначительными, эпизоды их взаимосуществования "во студенчестве". Вино и закуска как бы не присутствовали на этой встрече, отдавая заслуженную дань прошлому. Каждый рассказывал о себе: чего достиг, показывал фотографии детей и внуков. Среди всех он больше молчал и с нескрываемым интересом рассматривал своих состарившихся бывших однокашников. Было грустно. Несмотря на теплую осеннюю погоду на дворе, в забегаловке стоял могильный холод и он, как и большинство собравшихся, не решался сначала снять верхнюю одежду. Когда же от разговоров, воспоминаний и выпитого в забегаловке немного потеплело, он снял свою старенькую выцветшую куртку, и все невольно повернулись в его сторону: на лацкане его потертого выходного костюма подблескивали, надраенные им по столь праздничному случаю и впервые надетые им со дня их вручения две серые медальки, такие же серые, какой оказалась и прожитая ими всеми инженерная и учительская жизнь. Это была оценка его многолетнего бега впереди всех с красным флагом. Все понимали, что заработать такое беспартийному да еще инженеру в те времена было невиданным случаем. И оценили: молча и восхищенно смотрели на два серых круглых диска и на их муаровые ленточки. В ее глазах тогда он впервые заметил то, чего никогда и не надеялся увидеть еще со студенческих времен. А когда он показал всем несколько номеров небольшого в зеленой цветастой обложке журнальчика, в котором были опубликованы его последние стихи, он увидел в ее глазах...Нет! Этого не передать, что он увидел! Как будто им обоим было по двадцать три!
- Вот это звонок! Как же ты меня нашла? И вообще: откуда ты про все знаешь? - медленно повторил он после стемительно пронесшегося в нем вихря воспоминаний. - Невероятно! А я уже, было, собрался...
- Положить трубку? - за него закончила она.
- Да нет... - нехотя ответил он, вспоминая о недавнем неприятном. - Нет, это другое. Да и слава Богу, что не получилось.
- Что же ты собирался делать, негодник? Хорошее или плохое?
- О хороших событиях я уже давно не помню, - начал, было, он переходить на минорную ноту. - Я...
- Все, все, все! - торопливо перебила она, - тебе радоваться надо: внучка родилась! Твое маленькое кровное. Тво...
- Так откуда же все-таки? - перебил ее он, - и телефон...
- Да все очень просто: ты, "великий математик", как всегда, забыл, что наши дочки - подружки.
- Ах, ну да! Эти ваши бабские дела! Подружки-хрюшки! - он пытался скрыть досаду за напускной грубоватостью: он действительно напрочь забыл, что их дочери дружат еще со своих университетских начал.
Он вспомнил, что многочисленные подружки его дочери, как по школе, так и по университету часто бывали в их доме. Обычно с ними вместе с дочерью "водилась" и его жена. Она всегда была в курсе всех их девичих перипетий. Он же из них почти никого никогда не запоминал. Когда он приходил с работы и заставал кого-нибудь из них у себя дома, буркал свое "здравствуйте" и удалялся в свои пенаты. Однажды, придя домой с работы, из прихожей на кухне он увидел очередную подружку. Та сидела за столом к нему спиной и что-то жевала. Такая картина его ничуть не удивила, потому что подружки часто приходили на обильные и вкусные угощения его жены. Дочь сидела напротив нее и что-то, видимо, до этого рассказывала веселое: с ее смешливого личика еще не успела исчезнуть озорная улыбка, а во рту застрял кусок "мамкиного" пирожка. Действительно, обе успешно расправлялись с пирожками, горкой лежащими перед ними на широкой белой тарелке.
- Здравствуйте, - привычно буркнул он и направился к себе в комнату.
- Здрасьте! - подружка повернулась к нему лицом, и он сразу вспотел: на него глядела она, только моложе на двадцать лет! Это была именно она, и он, вдруг растерявшись, так , как был вполоборота, так и застрял колодой в прихожей. Подружка изумленно смотрела на все происходящее с ним, а дочка весело расхохоталась:
- Ну, как, папка, сюрприз?
- Ничего себе! - наконец, выдавил он, - одно лицо!
Подружка встала и вышла из-за стола, ничего в происходящем не понимая, а дочка звонко и заливисто хохотала.
- Папка! - наконец, перестала она смеяться, - это я все подстроила. Как-то я пришла к ним домой в ее отсутствие, - она кивнула на недоуменно торчавшую у стола подружку. Он определил, что та была наголову выше своей матери. - Ее мама была дома. Она спросила мою фамилию, чтобы передать потом своей дочери, кто из подружек приходил к ней. Когда она услышала мою фамилию, то спросила, как зовут моего папу. Я ответила. Тогда она рассказала мне, что вы вместе учились в университете и что у вас была чуть ли не любовь... Вот я и решила...
- Решила все подстроить? - перебил он ее, хмурясь. - Какая любовь? Я уже тогда был женат на твоей маме!
- Ну и что! Ну и что! Все равно интересно!
- Очень! Особенно для меня! - не то в шутку, не то всерьез пробурчал он и удалился к себе.
Все эти события четко предстали перед ним, хотя с того дня прошло уже более пятнадцати лет.
- Вот оно что! - после небольшой паузы, наконец, пробормотал он, - вот оно что! Значит, твоя шмыгалка звонила моей?
- Да нет, все наоборот: та ей звонила прямо из больницы. По мобильнику сообщила.
- Крутые нынче пошли девочки, - хмыкнул он.
- Да, кстати, я теперь почти рядом с тобой живу, - сообщила она и назвала улицу, которая действительно находилась на расстоянии одной троллейбусной остановки от их дома.
- Ясно, - не удивившись, ровным голосом ответил он. - Вот хорошо бы было, если бы ты сейчас пришла ко мне! - вдруг самопроизвольно сорвалось с его губ. Он тут же испугался сказанного. Трубка сразу замолчала. Пауза длилась, как ему показалось, почти целую вечность. Он и сам испуганно молчал.
- Ты с ума сошел! - вдруг шепотом произнесла она, - просто сошел с ума! Столько лет!
- Причем тут лет? - осмелел он, зная, что она уже более десяти лет живет одна и занимается только своими внуками. - Причем тут лет?
- Я просто позвонила тебя поздравить. Безо всякой задней мысли.
- Мне очень плохо... было, - выдавил он. - Я собирался... Ну, в общем, не важно... Если бы ты сейчас приехала!
- Ты точно не в своем уме! - врастяжку четко прошептала она. - Да и как я приеду? Ночь на дворе!
- Возьми такси! - быстро перебил он ее шепот. - Такси возьми!
- А внуки? Куда я их дену?
- А они что, у тебя находятся?
- Конечно! Дочь их забирает только на субботу и воскресенье. Все остальное время я с ними.
Он шестым чувством ощутил, что она тоже хочет его видеть. Вот прямо сейчас, сию минуту. Его сильное недомогание куда-то улетучиось, точнее сказать, он про него просто забыл. Он задрожал той нетерпеливой мужской дрожью, которая наступает у каждого мужчины перед близким обладанием женщиной.
- Как же быть? - откровенно растерянно спросил он. - Как же быть?
- Не знаю, - все еще шепотом, но уже на все согласная, ответила она.
- А может, тогда я к тебе приеду? - наобум ляпнул он, не находя выхода.
- А внуки?
- Они же, наверно, спят? А рано утром я уйду.
- Нет, уже слишком поздно, - не согласилась она. - Это последнее "слишком поздно" привело его в настоящее уныние: выражение можно было понять и как метафору. Прошло ведь тридцать пять лет со дня их последнего "разлучительного" разговора, точнее - недоговора, когда они, казалось, навсегда разошлись в разные стороны по жизни. Разошлись, вроде того не желая, но и особенно не препятствуя этому. Разошлись под давлением обстоятельств. Что-то мешало им тогда поговорить откровенно, начистоту, и открыть друг другу свои чувства. Может потому, что оба были к тому времени связаны определенными узами и не решились их даже коснуться. Боялись: грех.
- Ничто никогда не поздно, - он почему-то тоже перешел на шепот. - Ничто никогда не поздно.
- Может быть... - неуверенно начала она.
- Что? - оживился он, зная из собственного опыта, что женщина всегда в любых ситуациях что-нибудь придумает. - Что?
- Без четверти восемь я отправляю детей в садик и в школу. Дочь присылает за ними машину. И целый день я свободна...
- А я в восемь должен быть на работе, - уныло проговорил он. - Точно в восемь...
- Да! Как говориться, - не судьба! - он через трубку почувствовал ее горькую улыбку. - Не судьба.
- Да почему же не судьба! - решительно и звонко проговорил он, - судьба! Завтра к восьми я буду у тебя! А с работой как-нибудь выкручусь! Не убьют же за неожиданный поход, скажем, в... поликлинику!
- Да? - тут же откровенно обрадовалась она. - Точно сможешь?
- Точно. Если к этому времени не умру.
- Ты что это? - тревожно спросила она.
- От ожидания, от ожидания, - радостно успокоил ее он.
2.
Назавтра в точно договоренное время и по указанному ею адресу он стоял перед железной дверью ее квартиры, не решаясь нажать на кнопку звонка. ...Она открыла ему сразу, словно стояла все время с той стороны двери и ждала. Глаза ее лучились. Тоненькая фигурка, облаченная в черные джинсы и сиреневую кофточку-безрукавку, немного наклонилась в его сторону, и он, не задумываясь, просто поцеловал ее в шею. И почему-то шепотом произнес:
- Привет!
- Привет, - ответила она, улыбаясь, и закрывая за ним дверь, как-то странно посмотрела на него. Наверное этот поцелуй, первый в их жизни поцелуй, произошедший с его стороны естественно, сам поцелуй, который он бы никогда в жизни не посмел сделать, да и никогда не думал, что такое станет возможно, этот запоздалый поцелуй уже пожилого человека ее развеселил. Она, как и он, не почувствовала в нем ничего крамольного, ничего оскорбительного, и тем более ничего намекающего на близкие отношения между мужчиной и женщиной. Обыкновенный и ни к чему не обязывающий поцелуй старого знакомого. И не более того.
- Проходи вон в ту комнату, - она показала в сторону, противоположную прихожей. Там находилась комната, из открытой двери которой виднелось красивое, обтянутое белой кожей с круглыми крупными подлокотниками глубокое, современного дизайна кресло. Перед ним стоял небольшой коричневый журнальный столик с какими-то безделушками на нем.
- Надень вот эти тапочки и проходи, - она указала на черные открытые мужские сандалии. - Это домашняя обувь моего зятя, когда он здесь появляется, - пояснила при этом она. - Проходи, я сейчас. - И исчезла в каком-то боковом помещении.
Он аккуратно прошел в чужих домашниках в указанную ею комнату, и войдя в нее, увидел вдоль стены слева от двери красивый диван, оформленный как кресло. С другой стороны увиденного им еще из прихожей журнального столика симметрично креслу-дивану находиллось такое же кресло-диван. Справа от двери стену закрывал светлый мебельный гарнитур. Светлые, богатого вида шторы, ниспадали почти до пола в единственном и крупном окне комнаты.
Она где-то задерживалась, и он осторожно уселся на краю дивана, не зная, куда деть начавшие вдруг мешать ему руки. Ничего толком не соображая, стал разглядывать обстановку. Сердце его учащенно билось и руки начинало потрясывать. "Не хватало еще затрясти головой и тогда будет полный компот", - про себя подумал он и улыбнулся. Сразу стало немного спокойнее. Вспомнилась почему-то картина "Сватовство майора" из Третьяковки. Ему совсем стало весело и он пересел на середину дивана.
Наконец, появилась она. Он отметил, что и она испытывала от их встречи большую неловкость. Ее долгое непоявление указывало на то, что она пыталась как-то придти в себя от всего происходящего. На лице ее присутствовали следы от пудры, которой она неудачно пыталась скрыть выступившие на нем красные пятна.
- Ну, вот и я! - проговорила она чересчур весело, но он уловил в ее чрезмерной веселости какой-то надрыв. - Ну, вот и я! - повторила она, усаживаясь рядом с ним на диван. - Как ты решил с работой?
- У жениха примерно полтора часа времени, - глядя прямо в ее черные и совсем не постаревшие глаза, тихо произнес он и мягко взял ее за руку. Она руки не отняла и, повернувшись к нему, принялась, как ему показалось, молча рассматривать его. Он тоже молчал и, продолжая держать ее за руку, глядел в ее глаза. Немая сцена длилась целую вечность.Он не выдержал, взял свободной рукой ее за шею и медленно притянул к себе. Она не сопротивлялась. Черные глаза ее закрылись, он нашел ее губы...Поцелуй был глубокий и длительный. Как то время, что разделяло их все эти десятилетия. Одновременно он принялся расстегивать ее легкую кофточку, и она взяла его за руку, которая так бесцеремонно старалась добраться до ее маленькой упругой груди. Она сжимала и сжимала его руку, сжимала и сжимала, а он ею - ее грудь... После груди настала очередь пуговиц на джинсах. Тут губы ее разжались, и она зашептала ему в ухо:
- Не надо... Я еще не готова... Не надо... - Но он молча расстегивал пуговицы и снова поймал ее губы... Потом они оказались другой комнате, сплетенные вдвоем в постели. Она сама сняла джинсы, не разнимая с ним губ, потом...
Потом с ним случился обыкновенный мужской конфуз. Она лежала на спине с закрытыми глазами, положив на них одну руку, а другую протянула вдоль обнаженного тела. Он пытался войти в нее, но у него ничего не получалось. Не получалось и все! Впервые за свою долгую жизнь он так проехал с женщиной! Она молча лежала в прежней позе, не выказывая никаких эмоций, и это его сбивало. Ему даже показалось, что у нее своя, только ей присущая конструкция, и он никак не мог найти вход в это сооружение. Он маялся и маялся с ее неподвижным напряженным телом и ничего не мог поделать.
- Я давно забыла, как это делается, - наконец, виновато произнесла она, не убирая руки с глаз, - совсем-совсем забыла...
- Ты никак не разморозишься после длительной спячки, - прошептал он. - Ну, попробуй...
- Я стараюсь, - шептала она.
Но у него ничего не получалось. Тут совсем некстати к нему, как пиявка, прицепился мотивчик одной известной российской группы. Всех слов песенки он точно не помнил, но в голове постоянно звучала ее мелодия. А слова, что вспомнил он в этот позорный для него момент, непроизвольно соединил с пришедшими ему в голову своими:
Ун уомо* часто нюхал кокаино,
Его дер штуцер впал в дер нестоит...
Песенка впилась в него хуже лесного клеща, чем окончательно привела его к полному фиаско. На ум уже ничего не шло, кроме этих глупых и пошлых слов. Он встал с постели, понимая, что сегодня у него с ней ничего в этом плане не получится, что дело не в ее особой конструкции, а что она его просто не пускает в себя, и что его дер штуцер тут просто не причем. Он тихо подошел к ней с ее стороны постели. Она продолжала лежать в прежней позе. Поцеловал ее в губы:
- Мне пора! Ты - умница, и я постараюсь тебя разморозить. - Она убрала руку с глаз, и он увидел, что две крупные слезинки уже давно выкатились наружу и удивленно застыли на наспех напудренных к случаю и сильно побитых жизнью и временем щеках. Когда он уходил, она молча прижалась к нему и поцеловала его в шею:
- Ты прости меня!
- Я люблю тебя! - не глядя на нее, торопливо произнес он и закрыл за собой дверь.
Все время, пока он был на работе, они перезванивались, говорили друг другу всякие глупости, радовались друг другу и скучали. Он выбирал моменты, когда сидящие рядом коллеги отлучались и, прикрывая ладонью трубку, шептал в нее всякие давно несвойственные ему слова. Сотрудники были сплошь молодые, вчерашние выпускники ВУЗов и, если бы они услышали, что несет в трубку этот дед, то вполне наверняка вызвали бы "Cкорую". Вечером, по приходе его с работы домой, они снова созвонились, говорили друг другу всякие приятные слова и одновременно с этим искали способа новой встречи. У нее внуки уже были дома и она собирала их ко сну.
- Знаешь, - сказала она, - а что если ты придешь ко мне сегодня часов в десять? Внуки уже будут спать. А рано утром уйдешь. А?
- Ты что? - явно перепугался он. - Какой из меня Ромео! А вдруг кто из них проснется и увидит незнакомого дедушку среди ночи? Представляешь себе эту картину?
- Это все я беру на себя. Ты не волнуйся. Они еще ведь маленькие. Не проснутся.
- Ничего себе маленькие! - волновался он, - семь и десять лет! Да они сразу все поймут!
- Ты сам еще совсем маленький, - ласково произнесла она, - всего боишься. Приходи. Все будет хорошо. Как только дети уснут, я тебе позвоню. Хорошо?
- Договорились, - неуверенно и с тревогой в душе произнес он. - Договорились.
- Тогда пока? - и она положила трубку. В десять двадцать вечера затрезвонил телефон и на его "Да" он услышал шепот:
- Спят, приходи.
- Хорошо, - коротко ответил он, положил трубку и стал торопливо собираться. Одевшись, вышел на неосвещенную площадку, наощупь запер дверь и также наощупь спустился по темным лестницам во двор. Торопливо, как вор, прошел к соседнему дому и через его подъезд вышел на улицу. Маршрутку ждал минут семь. В столь поздний час в ней он оказался единственным пассажиром. Когда подъехали к знакомому дому, он попросил водителя остановиться. Вышел и по широкому неосвещенному полю перед домом, продираясь сквозь какие-то кустарники, которых днем он и не заметил, осторожно подошел к дому, отыскал необходимый подъезд, вошел и вызвал лифт. Хотя кругом было пустынно, он молил Бога, чтобы с ним в лифте никого не оказалось. Благополучно доехал до знакомой двери. Звонить не стал, а тихонько постучал в железо. На этот раз она точно стояла за дверью и ждала его стука: боялась разбудить детей. Открыла. Как два заговорщика, обмениваясь жестами, они проследовали мимо комнаты, в которой спали дети, на кухню.
- Не бойся, - прошептала она, наконец. Только что уснули. Набегались. Их теперь и бомбой не разбудишь. Пошли в лоджию. Там пока посидим.
- А если они все-таки проснутся? - неуверенно спросил он, направляясь за ней.
- Да не бойся же! Они сюда никак не попадут, чтобы я их заранее не услышала.
- Хорошо, - он немного успокоился, прошел в лоджию и сел за небольшой изящный дубовый столик, находившийся ровно посередине лоджии. Вопросительно посмотрел на нее.
- Я сейчас, - ответила она на его немой вопрос и исчезла на кухне. Через несколько минут вошла с бутылкой минеральной воды, двумя маленькими фарфоровыми чашечками и небольшой вазочкой из синего стекла, на которой горкой виднелось фигурное печенье. Все это она поставила на середину столика. Села.
- Садись поближе, - он взял ее за руку и потянул к себе.
- Воду, печенье будешь? - ресторанным голосом спросила она и взглядом указала на только что ею принесенное.
- Я же не в буфет приполз в такую темь, - смеясь, он притянул ее к себе и попытался поцеловать. Она легко увернулась и, глядя ему в глаза, ровным голосом произнесла:
- Расскажи мне о себе. Как ты эти годы жил. И вообще. Я ведь о тебе почти ничего не знаю.
- И я о тебе почти ничего не знаю, - в тон ей ответил он.
- Ну, вот и настало время нам познакомиться, - грустно засмеялась она.
... Он начал рассказывать. Сначала неуверенно, путаясь, не ведая, о чем лучше ей рассказать, перескакивая с пятого на десятое, затем все более твердо, более живо. Исподволь стараясь ей понравиться, он, забывшись, вел себя, как пятнадцатилетний мальчишка перед прыщавой подружкой: невпопад хохотал, строил всякие рожи, размахивал руками, изображая всякие смешные и грустные ситуации... Она внимательно смотрела на него, не перебивала, лишь изредка подливала ему в чашку минералку, которую он тут же залпом, не замечая, выпивал и продолжал, продолжал, продолжал... Наконец, он иссяк от усталости и посмотрел на свои наручные часы. Было половина четвертого утра.
- Я же должен в шесть уйти! - вскричал он. - Боже мой, что же ты меня не остановила! Я совсем с тобой обезумел!
- Ты должен был выговориться, - мягко взяла она его за локоть. - Пошли спать...
Они снова, как заговорщики, пробрались на цыпочках в спальню мимо комнаты, где спали дети, быстро разделись в потемках. Раздевались так, словно они вместе проделывали это все эти долгие десятилетия: спокойно и безо всякого стыда друг перед другом. Легли в постель. Молча пододвинулись друг к другу и слились в долгом-долгом поцелуе. Потом он начал целовать ее шею, груди, спускался все ниже и ниже...
- Ах, - наконец вскричала она сдавленно, - ах, ах! - Она раскрылась, разморозилась, и они надолго слились в полной и всепоглощающей любви... В небольших паузах она жарко его обнимала, жадно целовала в губы и дышала ему в ухо: "Лапочка ты моя родная!"...
Но, как всегда, в самый интересный момент обязательно должно что-нибудь случиться. Не стала исключением и эта ночь. В самый разгар событий в запертую на внутренний замочек дверь спальни начал кулачками барабанить и вовсю вопить ее не к месту проснувшийся семилетний внук:
- Бабушка! Бабушка! Бабушка!
Она мгновенно выскочила из-под своего ночного гостя и метнулась к запертой двери. На ходу схватила какую-то тряпку и, прикрываясь ею, благо в комнате стоял полный мрак, выскочила к внуку, закрывая собой вход в спальню. Затем закрыла за собой дверь и, что-то шепча ребенку, увела его в темное пространство квартиры. Вернулась через несколько минут, легла рядом и, наклоняясь к нему, прошептала:
- Приснилось ребенку что-то страшное. Отвела его в туалет и снова уложила. Уже спит. - Они продолжили свою неоконченную повесть...
К шести часам утра, когда ему следовало уже уходить, они оба так и не сомкнули глаз, и он с шумом в голове после этой необычной ночи, наскоро выпив засунутую ею ему прямо в рот какую-то особую таблетку от давления, на непослушных кривых ногах отбыл восвояси...
Была пятница. Она позвонила ему на работу в середине дня.
- Как ты? Жив? В твоем возрасте... - Она не договорила, но он почувствовал в ее голосе и некоторую укоризну, и нечто более приятное, что заставляло его сразу забывать все на свете. - Я договорилась с дочерью, что она заберет детей к себе не в субботу, а сегодня. Часа в четыре. У нас с тобой осталась всего одна ночь до приезда твоих...
- Хорошо, - коротко согласился он. - С работы я сразу - к тебе.
... Он плохо помнит события этой волшебной ночи. Он провел ее в хрустальном полусне, в нирване. Утром, придя к себе домой, не раздеваясь, упал на неразобранную постель и проспал без перерыва до пяти вечера...
В воскресенье приехала его жена. С понедельника они начали встречаться во время его обеденного перерыва в парке, расположенном в десяти минутах ходьбы от места, где он работал. Сидели валетом, тесно прижавшись друг к другу, на какой-нибудь свободной скамеечке и по большей части молчали. В одну из таких встреч у нее носом пошла кровь. Она пыталась от него это скрыть, но он сразу все заметил. При ней никакой сумочки не было, поэтому он быстро вынул из кармана свой носовой платок и протянул ей.
- Ничего, - успокаивающе сказала она, видя его встревоженный взгляд, - ничего. Это у меня часто случается. Пройдет. - И ободряюще улыбнулась. Платок был весь в яркокрасной крови, она постоянно прикладывала его к своему носу.
- Давай я "Скорую" вызову! - переполошился он. - Тебе же становится хуже!
- Ничего, успокойся! Пройдет, я сказала. Сейчас поеду домой. Все образуется. - Он взял ее под локоть и осторожно повел к троллейбусной остановке. Платок она держала постоянно у самого носа. Дойдя до остановки и глядя на подходящий троллейбус, она, улыбаясь, сказала:
- А ты придешь на мои похороны?
- Типун тебе на язык! - испуганно отшатнулся он. - Что за черный юмор!
- Не ворчи, - грустно улыбнулась она, - Через два дня меня отправляют с внуками на все лето на море. Так что теперь увидимся нескоро. Пока. - она прислонилась к его щеке своей и быстро вошла в подошедший троллейбус, все еще держа у носа окровавленный платок. Он увидел, как какая-то пожилая женщина испуганно вскочила со своего места и стала ее усаживать...
Лето проскочило довольно быстро: целыми днями он работал, ночами мучился от нестерпимой духоты в квартире, мало спал, а днем боролся на работе с перебарывающим его сном. Гнал вперед дни, чтобы поскорей ее увидеть. Потом ушел в отпуск, уехал к дочери познакомиться с новоявленной своей внучкой, возился там с ней, впитывая в себя ее милые детские запахи, гулял с ней на воздухе... Вернулся в самом конце лета, вышел на работу и немедленно позвонил ей. На удивленье трубку никто не брал. Он прозвонил весь день. Она должна была давно уже приехать со своих морей, так как детей надо было готовить к школе. На следующий день он пришел пораньше на работу и сразу же позвонил, пока никого из сотрудников не было рядом. Ответил тихий незнакомый женский голос. Он попросил позвать ее.
- Извините, а кто ее спрашивает? - дрожащим голосом поинтересовались на том конце провода, - кто спрашивает?
- Один ее давний знакомый, - раздраженно ответил он на неподобающее, по его мнению, любопытство.
- А ее нет уже полмесяца как, - разрыдалась трубка. - Скоропостижно умерла.
- А! - сильнейший спазм сдавил ему горло, и он никак не мог с ним ничего поделать.
- Алло! Алло! - рыдали на том конце, но он так и не смог ни слова произнести. Трубку положили.
На следующий день он отпросился с работы, поехал к ее дочери, узнал, где похоронена ее мать и тотчас же поспешил на кладбище. Ее могила была еще свежа, вся в цветах и с ее большим портретом в черной траурной рамке в изголовье. На мир глядели ее огромные черные грустные глаза, глаза, которые не давали ему покоя всю его долгую нелегкую жизнь и которые так не во время, так... Он даже думать не мог об этом: его душили слезы... Так навеки закрылись...
Он упал на сырую землю перед ее портретом, упал вместе с охапкой принесенных с собой цветов среди венков и простых букетов, судорожно обнял небольшой бугорок земли, под которым покоилась его короткая и такая длинная любовь, и громко, не стыдясь, зарыдал. Зарыдал, как рыдают маленькие дети, никогда не понимая, куда и зачем навсегда уходят их близкие...
Придя домой, он натолкнулся на вопросительный взгляд жены, которая после небольшого замешательства беспокойно [Author ID1: at Sun Mar 13 08:54:00 2005 ]с [Author ID1: at Sun Mar 13 08:54:00 2005 ] неподдельной [Author ID1: at Sun Mar 13 08:55:00 2005 ]тревогой [Author ID1: at Sun Mar 13 08:54:00 2005 ]спросила:
-- Ты что, плакал? Что произошло?
И он всё рассказал. Он был не в себе. Его здесь просто не было. Он был ещё там, с ней, у её могилы...
Жена опустила голову и долго-долго молчала. Потом, исподлобья посмотрев на него, мрачно, с хрипом в горле, произнесла:
- Занятная история. Очень занятная... Что же мы дальше-то с тобой будем делать?
- Не знаю, - вяло ответил он. - Ее нет. И я уже умер...
*_____
Ун уомо - один человек (итал)
05.09.2001 г. Кишинев
Бремя судеб наших...
Я впервые увидел ее в начале осени 1995 года. В один из солнечных выходных дней моя жена Маша, к тому времени уже пенсионерка с большим стажем, пошла выносить мусорное ведро. Эту процедуру она мне никогда не доверяла: подход к мусоросборнику для наших трех квартир на девятом этаже был сооружен из местных архитектурных соображений на восьмом, до которого по тем же соображениям доходил лифт, а сам столь вожделенный предмет жильцов прятался сзади лифтовой кабинки. Пока после сдачи дома в эксплуатацию все мы девятиэтажники спокойно заселялись в свои жилища, ни о чем дурном не помышляя и бесконечно радуясь вновь обретенному жилью, к тому же будучи абсолютными новичками в этом, как впоследствии оказалось, совсем не простом деле, не по годам шустрый обладатель одной из квартир на восьмом этаже, как оказалось - "афганец", мигом застолбил пространство за кабиной лифта крепкой кирпичной кладкой с бронированными дверями посередине и, довольно помахивая связкой блестящих новеньких ключей перед глупыми носами ничего не понимающих оторопелых своих новых соседей, объявил о вступлении в полное и окончательное законное владение захваченным пространством.
- Имею право! - нагло объявил он. Я - "участник"!
Наиболее ретивые из соседей тут же бросились жаловаться в ЖЭК, но там, как оказалось тоже совсем случайно, работал брат захватчика, который мягко посоветовал жалобщикам оставить ветерана войны в покое. Он, де, часто бывает не в себе и это в будущем пройдет. Вот тогда он всем соседям даст ключи от ДОТа. А пока, дорогие товарищи, потерпите. Но некоторые товарищи, особенно с девятого этажа, были уж очень нетерпеливые. Они не желали ждать, пока у их нового соседа наступит полная психологическая послеафганская реабилитация, и обратились уже чуть повыше - к районному начальству. И очень неосмотрительно поступили: буквально на следующий же день жэковский брат захватчика, как оказалось, тоже совершенно случайно отвечавший перед Родиной за заселение нашего дома, зачем-то полез на технический этаж и к его ужасу прямо у него на глазах самым таинственным образом одновременно повыбивало все краны с горячей водой над квартирой жалобщиков (а в те далекие времена воды горячей было в любое время года сколько угодно и она мало чем отличалась от современного кипятка). Кипяток, конечно, ни о чем не подозревая, хлынул вниз. При этом кое-как установленные при монтаже дома бетонные плиты никак не способствовали его хотя бы мало-мальскому задержанию и он, кипяток, крупным дождем пролился на все, что было в квартире на его пути, проскочил шустро и в нижерасположенные квартиры и уже, явно обессилев, остановился только в квартире на шестом этаже. Конечно, обои тут же клочьями поотлетали в разные стороны, сверкающий шпон на новеньких мебельных гарнитурах игриво закудрявился, линолеум на полах вспомнил заводскую пору своей молодости и возрадовался, тожестующе издавая уже почти забытые им ароматы... Хозяева немного запаниковали и принялись нервно отыскивать ответственного, т.е. самого брата захватчика мусоросборника. Но тот и не скрывался: он с особым достоинством медленно спускался по металлической лестнице с технического этажа и улыбаясь, принужденно разводил руками:
- Начало дня, товарищи! Слесаря все по - объектам! Потерпите, товарищи! Вот через час буду в ЖЭКе, может, там кого и найду...
Такого делового работника районное начальство не могло не заметить: не прошло и месяца, как оно, начальство, назначило своей волей этого гуся на более ответственное поприще: доверило ему командовать вновь сформированным ЖЭКом в нашем же микрорайоне, выделив ему одновременно соответствующую его новому положению квартиру в соседнем с нашем доме. Кстати, оперативно, к вечеру, в день горячего потопа оно, районное начальство, руками все того же ответственного за заселение нашего дома вручило жалобщикам свой письменный ответ, из которого недвусмысленно явствовало, что поименованный такой-то (далее следовала крупно фамилия захватчика) является участником боевых действий в Афганистане и посему пользуется определенными льготами. Правда, какими, оно, районное начальство, посчитало для себя недостойным сообщить. Мол, чего там, ясно и так. А кому вдруг опять станет не ясно, то у того краны снова могут отказать. Тем более, что горячей воды всегда навалом. Тут уже запахло чистой уголовщиной уже от властьпредержащих и большинство из соседей понимающе махнули на все рукой. Мол, плетью обуха не перешибешь. И начали свозить свой квартирный мусор на лифте вниз на улицу и выбрасывать всякие там свои кульки-свертки в контейнер, стоящий под трубой мусоросборника.
Вся эта процедура мусоровынесения каждый раз доводила меня до белого каления, я ругался последними словами на людскую терпимость и непонятную мне покорность, постоянно вспоминая, может быть даже в чем-то справедливые слова захватчика, брошенные им после всех вышеописанных событий прямо в лицо Маше:
- Эх вы! Жалко мне вас! Жизнь уже прожили, а так ничего и не поняли!
Поэтому Маша, как всегда, оберегая меня от всяческих треволнений, несмотря ни на какие мои настояния твердо брала мусорное ведро в свои маленькие и уже далеко не сильные ручки и неслась с ним вниз. Кроме того, как может быть всякая женщина, Маша обладает таким для меня малопонятным качеством как способность в любое время по пути кого-нибудь обязательно встретить. Говорит, что знакомого. Откуда они всегда берутся у нее на пути? Ну и, конечно, как не заговорить в таком случае! Вот, казалось бы, что тут такого в том, чтобы свезти ведро в лифте? Две минуты туда, две - обратно. Но это - для кого как! Глядишь, нет ее и нет, нет и нет. Ни с ведром, ни без ведра. Может, лифт уже отключили? Спускаюсь на восьмой этаж, проверяю: все в порядке. Лифт работает. Маши нет. Потом вдруг является. Вся запыхавшаяся, возбужденная и... без ведра!
- Ты знаешь, - начинает, - кого я сейчас встретила? - И таращит на меня свои зеленые глаза. - Ты знаешь?
- А где ведро? - первым делом привычно спрашиваю я, - в лифте оставила или у мусоросборника?
Она вначале смотрит на меня недоуменно, а потом, догадавшись, раздраженно машет рукой:
- Езжай да найди его там где-то! Так ты знаешь, кого я сейчас встретила?
- Ну, кого ты там еще встретила? - теперь я уже начинаю заводиться, - кого на этот раз? Где ты их каждый раз находишь? Я сколько раз куда бы ни пошел, никого никогда, НИКОГДА! не встречаю! Но ты же ни единого раза никого не пропускаешь! Ни единого!
- Так ты же и дома то не живешь! Ты все - как-то стороной! Все где-то витаешь! Все - мимо! Никого не видишь!
Ну, теперь пошло-поехало. Обычные дела.
На этот раз все почти в точности повторилось: Маша схватила мусорное ведро, убежала с ним к лифту и опять долго-долго отсутствовала. Я уже и думать забыл, что ее нет, и занимался своими делами. Но вот входная дверь знакомо скрипнула и на пороге оказалась моя по обыкновению возбужденная жена. Правда, на этот раз ведро она нигде не забыла, но глаза ее горели и были широко раскрыты. Я уныло приготовился слушать ее рассказ об очередной незабываемой встрече. У Маши от возбуждения перехватывало дыхание.
- Ну что там случилось на этот раз? - не выдержал я. - Мусорного бака не оказалось на месте и ты ходила выбрасывать мусор за три квартала от нас?
Лицо Маши переменилось, и она от возмущения не могла ничего вымолвить: слова застряли у нее в горле. Чтобы хоть как-то их оттуда вытолкнуть, она яростно замотала головой.
- Я не могла сразу мусор выбросить! - наконец выдохнула она залпом, - не могла!
- Так бак все-таки был на месте? - гнул свое я.
- Знаешь... Ты вечно все осмеёшь! - Ты... - у нее снова начали застревать слова. - Ты... Да ты знаешь, почему я не смогла выбросить мусор? - она наступала на меня, держа все еще в руке мусорное ведро, - знаешь?
- Почему же?
- Да потому, что там две женщины рылись в баке! В нашем мусорном баке!
- Ну и что тут удивительного? - я не понимал ее возбуждения, - ну что тут удивительного? Сегодня это норма жизни в нашей цэришоаре. "Люди и собаки вместе лижут баки" - сострил я.
- Дурак, ты, дурак! - Маша безнадежно махнула в мою сторону рукой, в которой держала ведро. - А ты знаешь, кто эти две пожилые женщины? Знаешь?
- Ну, ты, конечно же, с ними познакомилась? Не так ли?
- "Не так ли?" - горько передразнила меня Маша, - "не так ли?" Эти две пенсионерки - учительницы! Такие же, как я! Да еще оказалось, что мы встречались на ежегодных августовских совещаниях. Го-спо-ди! Го-спо-ди! - она все еще не выпуская из рук мусорного ведра, обхватила обеими руками свою белокурую головку и заголосила, как по покойнику. - Что же это делается-то на белом свете!
- Да перестань ты! Хватит! - не выдержал я. - Этого мне еще не хватало! Все! С сегодняшнего дня я сам стану выносить мусор!
- Да какой из тебя выносильшик! Какой выносильщик-то из тебя! - речитативом прокричала Маша. - Сиди уж и занимайся своими компъютерными делами! Работай, пока держат! Сам-то вон забываешь обувь надеть, уходя на работу! Сколько раз я тебя отлавливала в тапочках на лестнице? Горе ты мое! Выносильщик! - она никак не могла успокоиться.
- Ты пройдешь со своим ведром на кухню, наконец? - прервал я Машу, - или так и будешь выступать в темной прихожей? Оратор должен быть всегда на виду у публики!
- Ты знаешь, - не замечая моей иронии, продолжала она, - ты знаешь...
- Кого ты еще встретила? - перебил я ее. - Кого же?
- Да никого! - обиженно буркнула Маша уже из кухни. - Но, - уже громче добавила: - у нас сейчас будут гости!
- Вот как! Никого не встречала, а гости появятся?
- Какой ты вечно непонятливый! Просто я сейчас ехала в лифте с одной женщиной, которая знаешь в какой квартире живет?
Сказано это было так, будто они ехали из Петербурга в Москву.
- Ну, хорошо, в какой квартире она живет, эта женщина? - я машинально как бы ответил, но уже по привычке отключился, ибо знал, что за этим последует.
- В какой, в какой! - перекривила меня Маша. - В квартире "афганца", вот в какой! Который закрыл наш мусоросборник!
- Она, что, вышла за него замуж?
- Какой "замуж"! Какой "замуж"! - Маша от возмущения даже зашипела. - Ты что, с дуба упал, что ли? Да оторвись ты, наконец, от своих дел! Хоть один раз можешь ты меня нормально, по-человечески, выслушать?
- Ну что там еще вселенского произошло? Что там такого случилось? - заныл я, - что? Кто там за кого вышел, пока ты в лифте каталась?
- Да ты что не знаешь, что "афганец" вот уже полгода как продал свою квартиру и уехал жить в Румынию к родственникам?
- Меня это мало интересует. Давай скорее говори, что там у тебя произошло опять? А то мне некогда.
- Тебе всегда некогда, когда дело касается меня! - неожиданно повернула Маша, швыряя пустое ведро на место под мойкой. Хорошо, что ведро было с крышкой, да еще пластмассовое. Не то пришлось бы наблюдать его слезы и слышать его плач. Но ведро только глухо вздохнуло и, немного поколебавшись в тесном пространстве, примолкло с набекрень съехавшей крышкой. Ничего не поделаешь: мне пришлось отложить свои дела и изобразить мало-мальски заинтересованное лицо, ибо тучи уже сгущались. К тому же к этому времени я уже сидел на кухне и укрыться в другой комнате было бы не совсем удобным.
- Ну? - я смотрел на Машу как можно более заинтересованно. - Что там такого в лифте произошло?
- Ничего там не произошло! Ровным счетом ничего! - Маша была красна, как рак.
- Кроме того, что ты за десять секунд движения лифта успела познакомиться и разговориться с незнакомым человеком, - не удержался все-таки я
- Да! Вот и успела! Я всегда во всем успеваю! В отличие от некоторых! Не станем уточнять! Вот успела познакомиться! Она сама со мной заговорила!
- А, - махнул я рукой, - вы все, как с одной колодки! Не ты, так она! Какая разница! Давай выкладывай, что там тебя так мучает. Только, пожалуйста, покороче.
- Покороче, покороче - немного успокаиваясь, пробурчала Маша, - всю жизнь у тебя нет времени толком хоть раз меня выслушать, - она опять пошла на взвод. - Всю мою жизнь у тебя нет времени!
- Ладно, ладно, успокойся. - Я еще поднатужился и выправил себе еще более заинтересованное лицо. - Давай, я слушаю.
- Сейчас к нам в гости придет одна девочка. Малюсенькая такая! Хорошенькая! Такая сладулечка!
- Ну, все теперь ясно, - заулыбался я. - Ты, как только какого-нибудь малыша заприметишь, тебя уже ничем от него не оторвать. Где же ты успела узреть эту сладулечку? Тоже в лифте? Из-за того, что твоя внучка далеко отсюда, ты всем деткам проходу не даешь! То сладости всему подъезду раздариваешь, то еще что-нибудь! Давно тебе эти сопливцы не стучали в дверь и не просили "Бабушка, дай конфеток"?
- Да о чем с тобой говорить! - опять безнадежно махнула рукой Маша, - о чем с тобой говорить, инопланетянин!
- Ладно, ладно! - прервал я Машу, - так где ты эту девочку откопала?
- Я же тебе все это время и пытаюсь объяснить, где. В лифте сейчас со мной ехала ее мама, Патричия. Они с мужем и с дочкой уже второй месяц живут на квартире у женщины, которая купила ее у "афганца". Сама хозяйка сейчас живет в Мексике.
- Ничего себе география! - удивился я. - Где - Молдавия, а где -Мексика! А как она туда попала?
- Я точно не знаю, но, кажется, она вдвоем со своей сестрой бросили своих безработных мужей и подались за океан на заработки. Одна из них вернулась обратно ненадолго, купила вот эту квартиру, сдала внаем и снова укатила назад, а за квартирой оставила присматривать третью свою сестру, которая живет здесь, в Кишиневе.
- И все это ты в лифте узнала?
- Да что ты привязался ко мне с этим лифтом? Мы вышли и разговорились с Патричией. У них там. На площадке. Потом она меня пригласила к себе домой.
- Зачем?
- Да не без умысла. Говорит, что давно заприметила, как дети ко мне липнут. И хочет, чтобы я с ее дочкой посидела, пока она ее не устроит в садик. Сама она пока что находится в декрете, но думает скоро выйти на работу.
- А где работает?
- Где-то в Примэрии, в отделе по работе с молодежью.
- Неужели еще такой существует?
- Пока, говорит, что да. Но, якобы, скоро его могут прикрыть. Так что, сидя дома, она может остаться без работы. Поэтому-то и спешит выйти на работу раньше времени.
- Она, что, бывший комсомольский работник?
- Да не знаю я ничего еще толком! Сказала мне только, что до замужества окончила химфак и аспирантуру, но не защитилась.
- А муж?
-Он вообще у них кандидат сельхознаук. Зовут Раду.
- Да, не зря ты так долго отсутствовала, не зря. Столько информации! И все благодаря одному мусорному ведру!
- Ты опять за свое?
- Не буду, не буду! А где этот Раду работает?
- Да у того положение хуже губернаторского.
- Чем же?
- Работы-то, сам понимаешь, нигде нет. Вот кое-как устроился у своего какого-то дальнего родственника, бывшего шоферюги, а теперь владельца то ли колбасного цеха, то ли еще чего-то в этом роде, сначала чернорабочим, а теперь немного пошел на повышение: доверили заготовлять скот по селам. Мотается неделями не только по Молдове, но и по Украине и Румынии. Где что найдет.
- Да... Так что же с ребенком? Ты действительно собираешься с ним сидеть?
- Ну а почему бы и нет? Ей чуть больше двух с половиной. Такая хорошенькая!
- Да у тебя других деток не бывает! - засмеялся я. - Горбатого могила исправит! А, кстати, как же ты собираешься с ней общаться? Ведь она, я думаю, по-русски ни бум-бум, а ты по-молдавски - ни слова. Класс! А во-вторых, какую плату ты в этих условиях собираешься с них брать?
- Тебе, конечно, славненько: ты целыми днями - на работе, а я тут сколько времени одна уже с ума схожу! - Маша начала нервничать. - Одна, одна и одна! Не с кем и словом переброситься! А тут такая возможность! Патричия сказала, что может расплачиваться кое-какими продуктами. У нее родители живут в каком-то райцентре. Денег не обещала, но продуктами... Вот! - неуверенно закончила Маша и почти просительно посмотрела на меня. - Давай возьмем малышку, а? Это ведь совсем не надолго: пока в садик не устроят. Продукты нам сегодня ох как не помешали бы! Ох как не помешали бы! А? Тебя вот не сегодня-завтра могут попросить с работы... Что тогда станем делать?
- Ну вот, опять начинается сказка про белого бычка! С работы, с работы... Я и сам без тебя не хуже это понимаю. Дожились: за харчи надо идти "в люди"! - настроение у меня испортилось. - Делай, что хочешь. Не понимаю только, как ты с ней будешь объясняться?
- Да она еще совсем малюсенькая! Научится! Поймет меня! Я вот ее сейчас приведу к нам! Познакомимся! - последнее слово донеслось до меня уже с лестничной площадки...
Через несколько минут загремела входная дверь и в проеме кухонной двери я увидел... маленькое чудо, которое Маша легонько подталкивала ко мне сзади под спинку.
- Вот! - глаза у Маши радостно блестели. - Вот мы пришли познакомиться.
Чудо молча, не мигая, смотрело на меня своими огромными цвета глубокой южной ночи глазами, не оставлявшими, как мне сразу показалось, больше ни для чего места на чуть смугловатом личике. Чернющие, как смоль, густые крепкие волосы на голове были собраны в два толстых пучка по бокам, на каждом из которых красовалось по огромному красному банту. Красный шерстяной костюмчик, состоявший из кофточки с аппликацией на груди справа из белого зайчика и коротенькой гофрированной юбочки, продолжался белоснежными рифлеными колготочками и заканчивался красненькими малюсенькими туфельками. Меня особенно поразила по-настоящему лебединая шейка у этого чуда. Да...
- Ну, подойди ко мне, не бойся, - сказал я чуду по-молдавски. - Подойди к дедушке.
Чудо неуверенно двинулось ко мне и в метре от меня остановилось, вопросительно поглядывая.
- Подойди, подойди к дедушке поближе! Не бойся! - защебетала сзади нее Маша, немного подталкивая чудо вперед.
- Она тебя не понимает, что ты тут щебечешь! - рассмеялся я.
- Много ты понимаешь! - тут же обиделась Маша, - дети меня чувствуют! Я знаю!
- Оставим этот спор! Может, и чувствуют. Давай-ка мы лучше с ней поговорим. - И я обратился к чуду:
- Ты чья? Как тебя зовут?
- Я, - твердо и членораздельно и, как мне показалось, с каким-то внутренним достоинством произнесло чудо, - я - Элина Пуишор! Я - мамина и папина, умница и красавица!
- Вот это да... - серьезно сказал я и перевел ответ Маше. - Браво! А я - дедушка Боря, а это, - я показал на восхищенную всем происходящим Машу, - это - бабушка Маша. Поняла?
Чудо утвердительно кивнуло головой и молча уставилось на меня...
Маша договорилась с мамой Элины, что потребуется некоторый период адаптации, всего три-четыре дня, когда "мамика Патричия" должна быть дома, а девочка по два-три часа в эти дни будет общаться с ней, с Машей, с буникой Машей. Слова "мамика", "татику", "буника", "бунелу" были родными для малышки, не имевшей понятия ни о каком другом, кроме материнского, языке, и поэтому Маша должна была с самого начала их употреблять вместо "мама", "папа", "бабушка", "дедушка". У ребенка должен остаться хоть какой-то мостик к ее родной речи.
Прошла неделя... Каждый день, приходя вечером с работы, я интересовался у Маши, как у них с Элиной происходил процесс общения в этот день. Мне самому была не по себе эта, как я считал, чистейшей воды авантюра не только со стороны моей жены, но и со стороны мамики Патричии.
- Неужели, - в один из вечеров пенял я Маше, - Патричия не могла найти ребенку няньку-молдаванку? Такого же, как и ты, педагога! Да в наше нелегкое время только свистни! Сразу прибегут десятки даже со знанием японского, а не только родного ей молдавского! Я в первую очередь ее не понимаю! Может, она таким образом хочет обучить ребенка русскому языку?
- Что ты! Бог с тобой! - испуганно махала рукой на меня Маша. - О чем ты говоришь! Как я поняла из разговора с Патричией, они с мужем такие крутые румынофилы, что о чем-то русском в их кругу и напоминать-то, мягко говоря, считается дурным тоном! Даже более того - непатриотичным! Помнишь, у нас на историческом деканом был Афанасий Иванович покойный?
- Конечно. Маленький такой, худенький. Когда нас с тобой где-нибудь вместе встречал, всегда вежливо улыбался и здоровался. Потом его еще, кажется, в ЦК забрали заведующим каким-то сектором в отдел пропаганды. Ну и что с Афанасием Ивановичем?
- Да я то ли с первого, то ли со второго курса дружила, да ты должен помнить, с такой симпатичной блондинкой с длинными роскошными волосами. Помнишь?
- Нет, - ответил я, - не припоминаю. У тебя подруг была тьма.
- Да помнишь ты! Эльзой ее звали! У нее, кажется, мать - немка, а отец - молдаван. Мы еще летом с ней подрабатывали воспитательницами в детском саду... Да у нее еще муж был каким-то чином в МВД. Я тебя через него пыталась устроить на время летних каникул подработать связистом в школу МВД. Ну?
- Да, да! Вспомнил! И Эльзу вспомнил, и его, подполковника! Ну и что?
- Так вот мне Эльза рассказала под большим секретом...
- Ха-ха-ха! - перебил я тут же Машу, - у вашего брата - все "под большим секретом"!
- Зря смеешься! - обиделась Маша. - Сколько я натерпелась на этом факультете только из-за того, что я - москвичка, одна только я знаю! И Эльзе нечего было придумывать!
Так вот, как-то вызывает ее к себе наш незабвенный Афанасий Иванович, пусть земля ему станет пухом, вызывает к себе в свой деканский кабинет и напрямик интересуется, что же это она, жена такого уважаемого человека, молдаванка, водит уж очень тесную дружбу "с этой русоайкой", т.е. со мной. Вот, мол, и Коля Костин, один из передовых студентов факультета, заходил ко мне с этим вопросом. В общем, настойчиво советовал поразмыслить Эльзе над всем этим. Та, конечно, плевалась потом вовсю, рассказывая мне об этом, а Коля Костин, сам знаешь, чего достиг на этой тропе...
Вот теперешние мои работодатели это, как мне показалось, - прямые последователи Коли Костина. В подтверждение скажу, что с понедельника Патричия выходит на работу в Примэрию и в связи с этим очень деликатно меня проинформировала, чтобы я ей на работу не звонила: со мной ведь придется разговаривать по-русски и сотрудники обо всем догадаются в отношении Элины. Могут, мол, не так понять. Она, мол, сама будет звонить мне откуда-нибудь по другому телефону.
- Ну, мадам, - сказал я Маше, - вы и вляпались! На кой черт тебе вся эта национальная канитель? Да еще обе станете ребенка мучить! Мамашка не может дать указания няньке, потому что прилюдно надо изъясняться на вражеском языке, нянька, кроме вражеского, никакого другого не знает, а ребенок не знает вражеского! Зачем вы обе все это затеяли? Никак в толк не возьму! Отказывайся, пока не поздно! От - ка - зы - вай - ся!
- Тут есть один нюанс,- замялась Маша. - Маленький такой нюансик.
- Ну...
- Я не знаю, как это сказать... Как бы это попонятнее выразиться...
- Давай выражайся, как можешь, что ты мнешься? - я никак не мог выйти из раздражения. - Выражайся поскорей, я пойму!
- Ну... в общем... мы сразу понравились друг другу. Как мать и дочь. Патричия такая беззащитная! Смотрит на меня своими огромными грустными черными глазищами. Как маленький ребенок. Ищет защиты.
- Да видел я уже этого "ребенка"! Ты - мама-курица, а она - дочь-страус! Да и при чём тут "нюансик"? Вас обеих вынуждают жизненные обстоятельства идти на эту сделку. Но для тебя эта сделка не подходит! Отказывайся, я тебе сказал!
- Рост здесь не имеет никакого значения! - не обращая никакого внимания на мой нажим, гнула своё Маша, и голос её становился непреклонным. - Патричия - большой ребенок, только и всего. Родители у нее далеко: в районе. Она - ребенок выкоханный, как говорят украинцы. А тут оказалась одна в большом городе. Часто не знает, что делать и как поступать. Ей мать еще нужна. Да она мне все время в рот смотрит! Она же на год младше нашей дочери!
- Ну, ты точно - курица! Хотел сказать "Мать Тереза", но воздержусь! Твоей собственной дочери мать не нужна: укатила за тридевять земель, а этой, видите ли, подавай мать, хотя до родителей всего шестьдесят километров!
- А может, я ее понимаю больше, чем мать! И она меня тоже! Я когда ее вижу беспомощную... - у Маши навернулись слезы.
- Стоп, стоп, стоп! Дальше тебя уже бесполезно переубеждать! Пошли слезы! Всесильный аргумент вашего брата. Она же не одна здесь: у нее есть муж. В конце концов, мать с отцом могут приехать в любое время...
- Все! Я в данный момент ее не брошу!
- А если ей с тобой нечем расплачиваться будет?
- Да Бог с ней с этой оплатой! Обойдёмся! Я всё равно дома сижу и ни с кем почти не общаюсь. Озверела уже от одиночества. Да и "не хлебом единым"...Ты не знаешь, что это такое быть с маленьким ребенком и идти работать, когда рядом никого нет, когда даже своего жилья-то не имеешь и болтаешься по квартирам!
- Да муж же у нее есть! Почему же рядом нет никого? У нас с тобой в свое время ситуация, по-моему, была несколько похуже.
- Тогда время было другое! И, если хочешь - другой общественный строй!
- Ну да! Ты мне прочитай еще курс политэкономии! При чем тут строй? В ваших бабских делах никакой строй не разберется! Ей жалко мамашу беспомощную. А ребенка тебе не жалко? Как вы с ним будете общаться, когда он твоего языка не знает? И научить языку дома ребенка не научат, боясь проявления антипатриотизма. Ребенок ведь есть ребенок: может похвалиться своими приобретенными знаниями в самый неподходящий момент. А в общем, делай, что хочешь!
- Ну и буду! - по-детски заключила Маша, разве что только ножкой не топнула в подтверждение. - Ты только не лезь к нам со своими советами и сомнениями!
- Ну и не полезу! - в тон ей буркнул я.
...Вскоре Патричия вышла на работу, и Маша стала оставаться с Элиной на целый день. К нам домой Элину она приводила редко, стараясь побольше быть с ней в ее квартире: пусть, дескать, ребенок не чувствует чужой обстановки. Как они между собой изъяснялись, одному Богу известно. Маша старалась всегда следить за любым движением Элины, чтобы предугадать ее желание. Элина в большинстве случаев молча играла, разложив на ковре на полу свои многочисленные игрушки, а когда что-то хотела от бабушки, лопотала что-то по-своему. Маша тут же начинала играть с ней в угадалки. Так вдвоем они находили ответ. Правда в начале их общения часто случалось, что Элина замыкалась в себе, хмурилась, а на "приставания" буники швыряла в ту чем попало. Маша при этом всегда удивлялась: что это на ребенка находит? - А то находит, - говорил ей я, - что ребенок устает от постоянного его непонимания тобой, она ведь все время находится в постоянном напряжении. Ей нужна разрядка. Она должна поговорить на своем родном языке, что-то спросить, что-то рассказать, а не слушать постоянно чужую речь. Пусть, например, Патричия почаще звонит домой и с ней разговаривает. Пусть Раду, ее татику, звонит.
- Патричия, та может, а Раду... - Маша при этом хмурилась. - По-моему, он сильно против этой затеи со мной. Когда появляется дома, меня в упор не замечает! Я при этом стараюсь сразу же побыстрей уйти домой. А тут еще среди дня к ним зачастили какие-то родственники. Пытаются говорить со мной по-молдавски, а я, сам понимаешь... Они при этом смотрят на меня, как на врага пролетариата. Потом о чем-то толкуют с Элиной, посматривая при этом хмуро на меня. Противно.
- Ты сама в это дело ввязалась, так что терпи, - я никак не мог придумать более гибкого ответа на ее легкое поскуливание. - Давай я буду брать иногда ее на выходные. Родители с удовольствием отдохнут от нее несколько часов, а мы с ней погуляем, пообщаемся, сходим в цирк или, там, в кукольный театр. Потом придем домой, ты нас покормишь чем-нибудь вкусненьким, чем обычно бабушки потчуют своих внучат... Мне это дитя тоже очень понравилось. Ну, как?
- Согласна. Только ты не очень-то разгоняйся: Патричия собирается скоро отдать ее в садик...
Так мы подружились с Элиной. Мы часто бывали с ней вместе. В разговорах с ней я часть слов произносил по-русски, а потом объяснял ей их смысл. Изображал смысл, как мог. Она все очень быстро схватывала. А когда мы вдвоем приходили с таких прогулок к нам домой, Маша щебетала вокруг Элины, не зная, куда ту усадить. Обязательно испечет какой-либо вкусный пирог или наделает разных мягких сладких булочек и пышных пирожков, выставит на стол всякие варенья-соленья, извлечет из какого-нибудь своего тайника припрятанную от меня сладость и все это предстанет перед Элиной. Я у них - переводчиком. В такой домашней обстановке ребенок чувствовал себя легко и уютно и когда мамика приходила его забирать к себе домой, дитя упорно этого не желало: пряталось с веселым визгом где-нибудь в комнате, а когда его "находили", тут же убегало и пряталось где-то еще. И так - до получаса, пока мамика не начинала строить "строгое" лицо и обещать всяческие неприятности.
Вскоре Элина начала понемногу понимать "бунику Машу", произносила, с трудом выговаривая, некоторые русские слова. Мы с Машей не могли нарадоваться от общения с этим ребенком. Мы оба чувствовали в ней нашу новую внучку, и она вела себя по малости лет своих с нами как со своими бабушкой и дедушкой. С одной стороны Маша, где бы ни гуляла с Элиной, обязательно что-нибудь купит сладенького и сунет ей в ротик. С другой стороны сама Элина, будь я с ней или Маша, всегда требовала, как любой свой ребенок, мол, купи ей то-то или то-то и, если не дай Бог у нас что-то не получалось в этом плане, обижалась, плакала, ругалась, топала ножками и т.п., пытаясь добиться своего. Ее мамика категорически запрещала нам покупать что-либо для нее, Элины, урезонивала свою дочь, как могла, но ни я, ни Маша не могли устоять перед удовольствием сделать что-либо приятное этому нашему маленькому чуду.
Но хорошо долго не бывает. Эту банальную истину мы с Машей постигли в очередной раз. Сначала Патричия потеряла работу в Примэрии. Естественно, что она отказалась от няньки и Элину мы стали видеть только иногда по выходным. Затем пришла новая беда: хозяйка квартиры попросила семью Патричии немедленно съехать. Но не было бы счастья, да несчастье помогло: мы начали чаще в это время общаться с нашей новой внучкой: ее родители вечерами объезжали сдаваемые квартиры, которых к этому времени было хоть пруд пруди. Мы с Машей даже в чем-то позавидовали нашим новым знакомым: когда в свое время мы были молодыми и бесквартирными, подобная ситуация была для нас равносильна катастрофе: сдача казенного жилья в поднаем властью тогда не приветствовалась и потому поиски жилья проходили тайно от власти. А сейчас - пожалуйста. Открывай любую газету, выбирай адрес и - вперед. Дитя нам в этот период подбрасывали каждый вечер и я, возвращаясь с работы, в эти счастливые вечера подвергался со стороны Элины такой бурной радости, что не успевал даже достать из кармана заготовленную по такому случаю какую-нибудь конфетку "от зайчика": дитя с радостным визгом бросалось меня обнимать, крепко прижимало ко мне свое маленькое тельце и чмокало своими почти всегда замазанными бабушкиным вареньем пухленькими губками то в одну, то в другую щеку, заросшую к концу дня небольшой колючей для нее щетиной. В такие минуты я бывал на вершине блаженства, а Маша, стоя в прихожей, счастливыми глазами наблюдала за всем происходящим.
Однажды, когда в очередной вечер Патричия привела к нам Элину, Маша поинтересовалась, мол, как идут дела, какие успехи в поиске квартиры. Беспокоилась, как бы не вышел срок съезда с теперешней квартиры, жестко установленный хозяйкой. У Патричии в ее больших черных глазах появились крупные слезы.
- Ты что это, золотко? - сразу запричитала Маша. - Не волнуйся! Я, прости, глупость сморозила! Не волнуйся, на улице не останетесь: если, не дай Бог, к сроку ничего приличного не найдете, поживете пока у нас. Места хватит. Пропасть не дадим.
- У нас в городе много всяких родственников, - неуверенно проговорила Патричия, стараясь как-то спрятать свою прорвавшуюся наружу слабость, - но... Да потом, откровенно говоря, - не стала она продолжать свою мысль о родственниках, - мы ищем квартиру где-нибудь поблизости от вас. Поэтому и долго. Я уже по этому поводу переругалась с Раду: он никак не хочет жить в вашем районе.
- Да? - Маша, счастливая, схватила в охапку Элину: - Хорошо! Хорошо! Хорошо!
- Хорошо! Хорошо! Хорошо! - вслед за бабушкой повторяла Элина.
Через несколько дней после этого разговора квартира была снята в пяти минутах ходьбы от нашего дома. Пока родители благоустраивались на новом месте, Элина была с нами, но буквально через два дня после новоселья к нам пришла Патричия и говорит:
- Мне подыскали неплохую работу в полиции. Папа постарался. Прошелся по своим старым партийным связям. Правда, бочонок вина мне все же пришлось отвезти его другу. Да кое-что еще в придачу. Но это уже мелочи. А дочку мы отдаем в садик.
- Как? - Маша от неожиданности даже поперхнулась. - То есть, конечно, конечно! Правильно! - тут же поправилась она. - Ребенок должен воспитываться в коллективе... - Но лицо ее полностью выдавало.
- Да вы не волнуйтесь так! - Патричия мягко взяла Машу за руку. - Не волнуйтесь! Я от вас просто так не отстану! - она весело рассмеялась. - Я что-нибудь придумаю...
- Хорошо бы, - жалобно призналась Маша. - Я уже не могу без вас обеих. Во второй раз я такое не переживу...
- Почему во второй? - быстро спросила Патричия.
- Когда девять лет тому назад наша дочь впервые вышла замуж, будучи студенткой второкурсницей, ее избранник, переехав к нам жить из райцентра, решил, видимо, что исполнил свою голубую мечту жить красиво: столица, центр города, большая квартира, машина. Явно, что при таком наборе родители его подруги - люди состоятельные. А посему можно самому не очень напрягаться в отношении работы. Прокормят молодоженов! Полгода мы с ним бились, чтобы перестал целыми днями валяться на диване и шел куда-нибудь трудиться. Сами находили, где ему обрести себя. Это было не так-то просто, как ты понимаешь. Результат один: лежит и лежит. Единственной его заботой было плотно пообедать, густо набриолинить свой монгольского вида ежик да пойти встречать с занятий свою молодую супругу. И так полгода! День за днем! Тут наш бунелу не выдержал да к-а-к тряхнет его! Или - или! Ты же знаешь, он такой же Стрелец, как и ты. Жутко невыдержанный!
- Да он у вас даже очень выдержанный, - перебила Машу Патричия. - Сколько бы Элина его не слушалась, он ей все позволяет.
- Он ее просто любит. Как свою внучку. Потому и прощает ей все. Да, так вот, - продолжала Маша. - Узнал этот тип, что у бунелу дальний ленинградский родственник работает на Крайнем Севере редактором газеты. Ну и давай дочку сбивать с панталыку: мол, поедем на Севера, там ваш родственник большой начальник, пристроит, где потеплей. Деньжищ, мол, заработаем! Нудил, нудил ей и в один прекрасный день наша дочь нам заявляет: - Мы с мужем уезжаем на Север! Ему здесь с вами трудно! - Сколько мы ее ни уговаривали, ни увещевали, что, де, нельзя ей сейчас бросать учебу, что ее муж сам без образования и ее ожидает такая же участь, что он, если бы не лодырничал, то и здесь мог бы зарабатывать и содержать семью, что при этом они могли бы жить отдельно, что... и т.д., и т.п. Все было бесполезно: "Уедем и все!" Я до безумия любила свою дочь! Просто по-звериному! Она у меня - очень поздняя! Когда бунелу пошел провожать их а аэропорт, я осталась дома одна и со мной случилась настоящая истерика! Я так рыдала, так голосила, что на эти звуки сбежались все немногочисленные жильцы нашего небольшого особнячка и никак не могли меня успокоить. Пришлось вызывать "Скорую"! Ты не подумай, Патричия, что я ненормальная какая-то! Но я как-то невольно привязалась накрепко к вам с Элиной! Нет, я не хочу вас связывать ничем: жизнь есть жизнь и вы должны поступать так, как вам нужно, как следует. Никаких подобных истерик с моей стороны, конечно, не будет. А горечь расставания... Мы же взрослые люди... Перетерпим...
- Ну, ну, не волнуйтесь вы так! - Патричия опять погладила Машу по руке. - Я все-таки что-нибудь придумаю в этом плане. Все устроится...
Прошло около месяца. За это время с Элиной не было никаких связей. Ее родители нам не звонили, а мы считали неудобным их беспокоить. Все эти дни Маша не переставала вспоминать Элину, рассказывала мне про всякие смешные и грустные истории, которые случались раньше между ними. Иногда молчит, молчит и вдруг: - А вот Элина сейчас бы нахмурилась и сказала бы: "Буника!.." Грустила моя Маша. Грустила, хотя делала вид, что все происшедшее ее просто не касается никоим образом. В такие минуты я больше молчал: старался не поддерживать разговор. К чему бередить то, что бередить не следует! Но однажды вечером раздался звонок. Время было довольно позднее, но мы еще не спали: заканчивалась пятница и можно было выспаться в наступающую субботу. Маша, хотя и не ходила ни на какую работу, но ежедневно вставала вместе со мной в шесть утра, готовила мне завтрак и отправляла на работу. Так что укладывались мы спать в будние дни всегда довольно рано. А по пятницам мы позволяли себе небольшую вольность лечь попозже. Звонила Патричия.
- Мария Федоровна! Мария Федоровна! - радостно позвала она.
- Да, да! Я слушаю тебя, Патричия! - почти закричала в ответ Маша, - я слушаю! Слушаю! - При этом она даже вскочила на ноги, хотя трубку сняла лениво, сидя в мягком кресле. Как она, бедненькая, ожидала этого звонка! Как страдала без обеих своих девочек!
- Патричия!
- Мария Федоровна! Мы с Элиной вас завтра приглашаем в гости! С утра! Когда захотите! Раду целый день не будет. Мы с вами устроим девичник! Хорошо?
- Хорошо, хорошо! Милые вы мои! - глаза Маши были полны невообразимого счастья. - Хорошо! Только скажи мне свой адрес и телефон!
Патричия назвала.
- Завтра я вам с утра перезвоню и договоримся! - Маша в непередаваемом возбуждении продолжала кричать в трубку. - Как вы там? Как устроились?
- Все в порядке, - отвечала Патричия. - Вот завтра придете и мы все вам расскажем. Ну, пока? - спросила она.
- Пока, до завтра. - Маша неохотно повесила трубку.
- Вот видишь, не забыли! - обратилась она ко мне. - Не забыли! - она походила на радостного взъерошенного маленького воробушка. - Не забыли, мои сладенькие девочки! Не забыли! Я ведь говорила тебе! Я...
- Ладно, ладно! - перебил я радостную тираду. - Я сам рад за тебя и твоих девочек. И слава Богу, что ты их так любишь. Слава Богу, что нашлись здесь те, которым ты можешь отдать свою нерастраченную привязанность.
Назавтра Маша ушла в гости часов в одиннадцать, а заявилась домой часа в четыре дня. Видно, что погуляли "девочки". Явилась веселенькая, видно было, что под небольшим хмельком. В руках держала полнющие большие белые пластиковые пакеты.
- Ну что, - засмеялся я, встретив ее и забирая тяжелую ношу из ее маленьких рук. - Будем петь "Шумел камыш, деревья гнулись"? В магазине что ли побывала по дороге?
- Это мне девочки надарили, - с трудом снимая пальто, гордо сообщила Маша. - Элина как повисла у меня на шее - не могу оторвать! Не хотела отпускать! А Патричия, так та натолкала вон всяких продуктов в пакеты! И обе проводили меня почти до нашего лифта! Вот!
- Молодцы! - порадовался я за Машу. - Я смотрю, что и по рюмочке на радостях пропустили?
- А как же! Раду привез из села домашнего вина. Такой вкус! Такой аромат! Элину за уши не могли оттащить от этого вина! "Я тоже, - кричит, - хочу вместе с вами! Это мой татику привез!"
- По-русски кричала или по-своему?
- По-русски, в том-то и дело!
- Ничего себе научила ребенка! Откуда она слова-то такие знает?
- Вот, как видишь, знает! Она все схватывает налету. Мамика ей что-то по-молдавски выговаривает, а эта схватила меня за руку (защиту нашла!) и лупит ей ответы по-русски! Правда, слова еще коверкает.
-Жаль, дальше тебе не суждено ее учить.
- Да как сказать, как сказать! - Маша прошла на кухню и присела за стол. - Фу-у-у! Ну и жара! Ну и устала! Кстати об учебе. Она уже вот как две недели ходит в садик. Вот тут через дорогу от нас. Через два дома.
- Красота! Совсем рядом! Когда сильно соскучишься, сможешь навещать.
- Вот-вот! Во-первых, Патричия меня попросила, чтобы я подошла в этот садик и посмотрела бы там, что да как.
- А откуда она знает, что ты у нас "маре специалист" по садикам?
- Как откуда? Я ей раньше рассказывала про то, как работала заведующей в садиках на Старой Почте и в Центре.
- Ну, ты все всем всегда вытрепываешь! Разве так можно?
- А что тут секретного? Что секретного-то?
- Секретного - ничего, но и биографию свою каждому встречному-поперечному не стоит выкладывать!
- Ты всю жизнь был такой подозрительный! В общем, короче: я должна буду сходить в этот садик, посмотреть, как девочка там устроена, какие воспитатели и т.д. Это тебе не интересно. Потом, похоже, придется ее после обеда иногда забирать к нам домой.
- Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Зачем же тогда надо было в садик отдавать ребенка?
- Не поверишь, но дело в том, что она целиком и полностью пошла в своего татику. А тот, оказывается, в любом садике никак не мог прижиться. Мало того, что бесконечно рыдал, но и послеобеденный сон ему никак не удавался! Что ни предпринимали бедные его воспитатели, но уложить его в постель было невозможно! Никак! Так и ходил в садик: до обеда еще кое-как с детками играет, а после обеда - хоть убей! Все спят, а этот сидит где-нибудь в углу и терпеливо ждет, когда сон закончится! Так за все время ни одного дня и не спал! Ни-ког-да! И Элину за эти две недели, пока она ходит в садик, ни разу не смогли уложить в постель после обеда. Вот это наследство!
- А что Раду говорит по этому поводу?
- А что ему! Смеется и разводит руками. - Этот крест, - говорит, - придется нести!
- Чудеса! Тогда, конечно, сходи в садик. Поговори с воспитателями. Может, удастся эту козерожку уговорить ложиться спать...
- Я постараюсь, но вряд ли...
Маша действительно пошла в садик в понедельник. Садик был, естественно, молдавский и все, что было вывешено на стенах группы, в которую ходила Элина, все советы родителям, расписания, методики и прочее Маша прочитать не смогла. Воспитательница и нянечка, обе молоденькие девушки, сначала никак не восприняли русскую бабульку и подумали, что та забрела к ним по ошибке. Но вскоре почувствовали твердую хватку бывшего детсадовского работника и даже немного оробели. Маша, увлекшись, начала с ними разбирать, говоря казенным языком, структуру работы, показывая одновременно, где и чего, по ее мнению надо бы добавить, что где изменить и...пошло-поехало! Родная стихия! Девчонки показали ей группу, игрушки, пособия, даже туалетную комнату. Детвора гурьбой шумно ходила за взрослыми. Все, кроме Элины. А та, гордая, стояла у окна, в стороне от всей процессии и молча наблюдала за всем происходящим.
Но это было только началом для Маши. Кому-то из "девочек", то ли Элине, то ли ее мамике такая активность буники пришлась сильно по душе и вот уже Маше пришлось с утра отводить Элину в садик, решать там все родительские проблемы в отношении ребенка, ну и, конечно... забирать ее после обеда домой! Спать-то мы никак не можем среди дня! Ни за какие коврижки раздосадованные воспитатели не могли уложить ребенка в кроватку. Ничего не выходило! Она тут же молча вставала, молча брала в группе стульчик, шла с ним в раздевалку, ставила стульчик возле своего шкафчика, на котором был нарисован забавный беленький ослик, и со вздохом усаживалась на стульчик лицом ко входу. Ждала свою бунику Машу. Ждала терпеливо. Как преданная собачка ждет своего хозяина. И ничто, никакие всякие-разные силы не могли поколебать ее твердого решения дождаться свою бабушку. Она непоколебимо верила, что буника обязательно, обязательно, несмотря ни на что придет и заберет ее отсюда. Иногда бывало так, что в виде наказания Патричия буквально приказывала Маше не забирать ребенка после обеда. Пускай, мол, не капризничает и ведет себя, как все дети. В такие черные дни ребенок сидел на стульчике в раздевалке и сиротливо глядел на входную дверь ровно до тех пор, пока не кончалось время сна и любопытная детвора, кое-как полуодетая, кто в одном сандалике, кто - при одной надетой штанине, кто - вообще весь в соплях и босиком, вся эта детвора шумно не высыпала в раздевалку, окружая любопытным галдящим кольцом почему-то совсем непохожее на них существо. Тогда Элина молча вставала, забирала свой стульчик и уходила в группу, ни с кем не общаясь, совсем по-взрослому. Потом там, в группе, подходила к огромному, почти до самого потолка окну, выходящему на дорогу, ведущую в садик и тоскливо глядела из него на пустое пространство двора, отделенное от дороги редким зеленым штакетником. После такого события на следующее утро, когда Маша отводила ее в группу, она жалобно глядела на Машу и с выступающими на глазах крупными слезами вопрошала: "Буника, ты правда заберешь меня после обеда? Ты сегодня не забудешь?" В такие минуты Маша чувствовала себя очень гадко. Она не могла объяснить малышке, что сама мамика запретила ее брать после обеда. Не хватало духу. Маша молча гладила ребенка по ее густым ершистым волосам, молча подталкивала ее под спинку в группу, избегая больших черных всепонимающих детских глаз. В один из таких дней, когда Элина должна была досиживать на стульчике в раздевалке до вечера, Маша, ярко представив себе всю эту картину, как в омут, бросилась в садик забирать малышку.
Прибежав в группу, увидела, что дети еще не садились за столики на обед. Вид у Маши, видимо, был соответствующий, так что воспитательницы, завидев ее на пороге, побросали свои дела и почти хором спросили:
- Что-то случилось? На вас лица нет!
- Ничего, ничего! - шепотом ответила Маша. - Ничего не случилось. Я заберу сегодня Элину после обеда.
- Конечно, - понимающе согласилась нянечка, - иначе она опять весь сон станет сидеть на стульчике в раздевалке возле своего шкафчика с белым слоником. Я сама с трудом выношу это грустное зрелище.
- Я заберу, заберу! - повторила Маша, - а ее мамике позвоню, чтобы она зашла за ней к нам после работы. Я не могу спокойно находиться дома, чувствуя, что ребенок только и делает, что ждет меня.
... Так и пошло: утром Маша отводит Элину в садик, после обеда - забирает. Патричия, было, попыталась воспрепятствовать этому порядку, но Маша твердо стояла на своем: я сама ее дома накормлю, спать уложу, проведу сама с ней какие надо занятия, а если понадобится, то бунелу поиграет нам на своем аккордеоне, а мы потанцуем. Нечего истязать ребенка только за то, что он такой вот уродился! Не надо ломать его через колено! Это потом ей и всем вам выйдет боком! Патричия, в конце концов, махнула на все это рукой: делайте, как считаете нужным.
Так пролетели три года... Много чего случилось за это время. Элина научилась вполне сносно говорить по-русски, несмотря на то, что каждое лето проводила у своей родной бабушки. После каждой такой поездки встречаясь с Машей, она дичилась, многие русские слова были ею забыты, она подозрительно глядела на бунику Машу и всегда задавала один и тот же вопрос: "Буника, а ты моя бабушка или чужая? Правда, ведь ты моя самая бабушка?"
- Твоя, золотко мое маленькое, только твоя! Чья же еще? - Маша при этом крепко прижимала ее к себе и горячо целовала ее в пухленькие щечки. - Только твоя!
Маша чувствовала, точнее - знала, что все эти годы вся без исключения родня Патричии в открытую не одобряла "русификацию" Элины. И конечно же Элине разъясняли истинное положение вещей. И не единожды. Но она своей маленькой детской душой была исполнена такой огромной детской любви к "бунике Маше", что все объяснения, уговоры, наговоры, разговоры своих прямых родственников всерьез не воспринимала. Не проходило и недели, как она восстанавливала свой русский лексикон и в самое неподходящее для родителей время, когда у тех в гостях находилась какая-нибудь шумная компания, выдавала им на чистейшем русском с бабушкиным московским акцентом нечто вроде такого: - Смотрю я, достукаетесь вы! Сожжете квартиру! - Тут наступал полнейший конфуз.
Родная бабушка Элины, кажется, начала понемногу признавать наличие Маши в жизни ее внучки. В начале, бывало, когда она приезжала в гости к своим в Кишинев и Маша, у которой всегда имелись ключи от квартиры Патричии, заходила туда по разным делам, поручаемым ей Патричией, не ведая, что буника Галя - так звала свою настоящую бабушку Элина - где-то здесь, в городе, она часто сталкивалась с ней, что говорится "нос к носу". Холодное высокомерие и явное, нескрываемое недоброжелательство сквозило во всем поведении буники Гали. В таких случаях Маша немедленно бросала все дела и пулей мчалась домой, не понимая, "за что такая ненависть". Случалось, что Маша приводила Элину откуда-нибудь, а буника Галя находилась в это время с Патричией дома. На обычное Машино "здрасьте" буника Галя молча демонстративно уходила в другую комнату. "Ревнует, не обращайте внимания, - успокаивала Машу Патричия, - привыкнет".
Раду, который прежде тоже никогда почти не замечал Машу и, приходя с работы, когда Маша находилась еще у них дома, что-то буркал ей и начинал по-своему болтать с Патричией и дочкой, как будто вместо чужой тетки в квартире стоял некий чурбан, теперь тоже подобрел. Начал иногда с Машей заговаривать и несколько раз даже подвозил ее на своем авто к нашему дому. И совсем уже неожиданный с точки зрения Маши поступок с его стороны: сам, по своей инициативе привез нам по мешку муки и сахара, сам все это, что называется пёр с восьмого к нам на девятый этаж! Признал. Надо сказать, что Патричия и Раду - хорошие ребята и мне они нравились. Мне думается, обстановка в наших краях вынуждала их вести себя, как сейчас модно говорить, неадекватно.
Патричия часто поддавалась унынию, сетуя на недостаточность средств к существованию. Они с Раду пытались кое-что из своих доходов откладывать на покупку квартиры, но из их затеи почти ничего не получалось: все деньги практически съедали бесконечные кумэтрии, свадьбы, дни рождения, устраиваемые их многочисленными родственниками и друзьями. - Я не могу отказаться! - чуть не плача, отвечала Патричия на вопросительный взгляд Маши, оставляя ей Элину. - У нас такие обычаи! Попробуй не приди! От тебя все отвернутся!
- Да, но... - начинала Маша...
- Нет, нет, нет! - тут же перебивала ее Патричия, - ничто не признается! Никакие доводы!
- Да нельзя же быть рабами своих обычаев! Мало ли какие обстоятельства могут становиться на пути! Тебе же завтра есть нечего будет! Мы же цивилизованные люди!
- Ах, Мария Федоровна! - отмахивалась Патричия, - не знаете вы нашу жизнь! Как-нибудь выкрутимся!
На том диалог и заканчивался. И всякий раз после этого Маша вновь и вновь вспоминала своего университетского преподавателя по истории Молдавии, который из всей истории, как ей казалось, рассказывал только о свадьбах да кумэтриях, о похоронах да поминках. - Возможно, - думала Маша, - я действительно чего-то не понимаю Пусть живут, как им хочется! Отчего я всегда лезу не в свое дело!
Но денег все-таки у Патричии катастрофически не хватало. И она, глядя на то, как многие ее знакомые женщины уезжают на заработки в другие страны, либо отправляют туда своих мужей, узнавая, что "оттуда" привозят неплохие "бабки", принялась оказывать давление на Раду, чтобы тот что-либо предпринимал в этом направлении. Раду и слышать об этом не желал, отбивался, как мог. И был Патричией наказываем за это. Часто приходя к ним ранним утром, когда и Патричия, и Раду уже одной ногой стояли на пороге, а Элина еще сладко спала, Маша обнаруживала, что "татику провел ночь в салуне", как говорила малышка. И действительно, ребенок, желая как-то освободиться от своих тягостных для него детских тревог, всегда в таких случаях, поднимаясь с постели под ласковые бабушкины приговаривания и поглаживания, обнимал ручонками бунику за шею, утыкался носиком в ее мягкую и теплую грудь и сам выдавал все семейные секреты:
- Мамика вчера опять сильно ругалась с татику и прогнала его спать в салун на пол. Она хочет, чтобы он уехал куда-то, а он отказывается. И я не хочу, чтобы татику уезжал. - Потом после короткой паузы всегда добавляла: - Я татику больше люблю, чем мамику.
- Не обращай внимания, - гладила ее по головке Маша. - Взрослые иногда ссорятся. Но мамика и татику тебя очень любят.
- Мне татику жалко, - начинала кукситься Элина, - он хороший.
- Дети в дела взрослых вмешиваться не должны! - в Маше сразу прорезался учительский тон. - Давай одеваться!
Сама Маша в такие минуты чувствовала себя противнее некуда. Когда дело касалось детей, своих ли, чужих ли, когда кто-то наносил им обиду или еще только пытался это сделать, она, не рассуждая, всегда становилась на их защиту. Бывало, у нас дома, когда наша дочь, а впоследствии и внучка, движимые своими детскими эгоистическими интересами обижали ее саму и я, пытаясь ее защитить, едва только делал какое-либо движение, которое, по ее мнению, угрожало бы ребенку, она, как разъяренная птица, выбрасывала в стороны руки-крылья и прикрывала собою ребенка, начиная яростно кричать на меня, а чаще - плакать, утверждая, что это - дети, и что они ни в чем не виноваты. И переубедить ее в противном было просто невозможно. Она не понимала, как это можно тронуть ребенка. Да она и по жизни-то очень наивна. Наивна по-детски. Однажды ей позвонила ее подружка, с которой они вместе работали в школе.
- Собирайся, - кричит в трубку взволнованно, - всех приглашают в городской школьный профсоюз. Весьма срочно. Сказали, что будут давать нам, пенсионерам-учителям какую-то продуктовую помощь. Как раз вовремя! Я так и не знаю, чем своих кормить. Хоть иди да шарь по помойкам. Идешь?
- Конечно, конечно! - тут же засуетилась Маша, - когда?
- Завтра к двенадцати. Да не забудь, сказали, взять паспорт.
- Зачем же паспорт?
- Как зачем? Проверят, что это действительно ты, распишешься в получении. Во всем должен быть порядок.
На следующий день, несмотря на очень ненастную погоду, эти две бабульки потопали за дармовыми продуктами в свой профсоюз, бесконечно радуясь: мол, помнят у нас еще старые кадры, не забывают. Приятно, мол, да и голод - не тетка. Маша появлялась дома только к вечеру. Усталая и растерянная.
- В чем дело? - спрашиваю, - почему так долго? Давали концерт в вашу честь? А что ты - с пустыми руками? Обокрали по дороге?
- Какой там обокрали! Хотя...можно и так выразиться, - снимая с себя пальто, выдавила она.
- Ну-ка рассказывай, - помогая ей освободиться от верхней одежды, - попросил я. - Рассказывай.
- А что тут рассказывать? Пришли мы с Ноннкой туда. Народищу!.. Полный зал. Да еще толпа на улице. Потом стали нас вызывать по одной, записывать данные наших паспортов и заставлять расписываться.
- И продукты сразу давали?
- Да какие продукты! - зло воскликнула Маша, - Какие продукты! Сказали, ждите, мол, на улице: продукты подвезут, когда всех запишем. Чтобы, де, толкотни никакой не было. Запишем, мол, а потом всем сразу - продукты. И по домам.
- Ну? - ждал я продолжения, как уже сам догадался, знакомого мероприятия под названием "кидаловка". - Потом машина с продуктами где-то по дороге застряла? Таможня задержала?
- А ты откуда знаешь? - вытаращила на меня свои зеленые глаза Маша, - звонил? Откуда?
- От верблюда! - расхохотался я. - От него, горбатого. Кинули вас, глупых старушек, как распоследних дур!
- Во что кинули? - не поняла Маша широко распространенного в наше лихое время от правительственных верхов до тюремных закоулков блатного жаргона. - Во что это нас кинули?
- В самое, самое дерьмо! В него вас миленьких и кинули. Вас держат за обыкновенное электоральное быдло!
- За какое еще элек... - это слово ей было неведомо, ибо она отправилась на пенсию еще до его возникновения. Она на нем основательно запнулась.
- Да ты телевизор-то не смотришь! Все плюешься! Мол, гонят одну рекламу да порнографию. Ну и вот результат. А газет-то мы не читаем, ибо не по карману они пенсионерам. А на дворе-то давно уже избирательная кампания. И ты у нас - самый что ни на есть электорат, то бишь избиратель по-нашему.
- Ну и что?
- А то! Какому-то деятелю срочно понадобились подписные листы, заполненные, якобы, преданными ему избирателями. Вами, то есть, глупыми. Вами, которые ждут и никак не дождутся, как бы поскорее отдать за него, родимого, свои, пусть и кряхтящие, но все же государственные голоса. Ему эти голоса ваши профдеятели с вашей же помощью и сообразили. Теперь он понесет списки с вашими фамилиями в избирательную комиссию и будет там зарегистрирован как кандидат в депутаты. А там...
- Не может быть! - Маша от негодования стала пунцовой. - Да это же... подсудное дело!
- А судьи кто? - продекламировал я, дурачась, дедушку Грибоедова. - Ты за них не волнуйся: там все путем.
- Вот мерзавцы! Вот подлецы! - весь вечер только и повторяла, никак не успокаиваясь, раздосадованная Маша. - Надо же до чего мы докатились!
Вот такая она, моя жена Маша!
В один из дней, когда Маша, забрав Элину после обеда из садика, укладывала ее спать, в дверь позвонили. Элина пулей сорвалась с постели, пользуясь таким благоприятным случаем, чтобы избежать так ненавистного ей послеобеденного сна. Босая подбежала к входной двери и, не давая Маше даже рта раскрыть, быстро спросила по-своему: - Кто?
За дверью что-то ответили. Маша не поняла, но Элина радостно завизжала: - Моя бабушка приехала! Буника Галя!
Маша открыла дверь. На пороге, обвешанная сумками с головы до пят, стояла усталая и растрепанная буника Галя. Маша молча посторонилась и буника Галя, кряхтя, перетащила свою многочисленную поклажу через порог. Элина с криками "Ура!" тут же повисла у нее на шее. Маша едва успела подставить стул, иначе бы буника Галя оказалась на полу от такого радостного натиска. Наступила продолжительная пауза. Элина перебралась на колени к бунике Гале. Обе бабушки молчали. Маша начала собираться к себе домой.
- Погодите, - вдруг хрипло выдавила из себя буника Галя, снимая Элину с колен и поднимаясь со стула. Она стояла среди валявшихся вокруг нее сумок крупная, ширококостная, еще не старая, но уже далеко не молодая, и было видно, что сильно и немало побитая жизнью женщина, и на лице ее, кроме невыносимого нечеловеческого страдания, ничего нельзя было разобрать.
- Погодите, - повторила она Маше севшим голосом. - Я всегда была неправа в отношении вас... Слишком неправа... Много лет... Я вижу, что вы... любите... Элину... Любите... Патричию... Вы здесь... - не ради денег...То есть не только ради них, - быстро поправилась она. - Мне Патричия говорит, что вас сам Бог послал нам такую... Я... я... с ней согласна...
Она вдруг разрыдалась и кинулась обнимать Машу: - Не оставляйте их одних... Не оставляйте, Богом молю! Мы все на Вас надеемся! - горячо шептала она Маше, - мы все надеемся...
Маша от неожиданности потеряла дар речи. Потом, немного опомнившись, мягко высвободилась от почти судорожных объятий не на шутку разволновавшейся буники Гали и прямо глядя той в глаза, недоуменно спросила:
- А что, собственно, произошло? Успокойтесь, пожалуйста! Никого я никуда не бросаю. Что случилось, Галина Владимировна? Да успокойтесь же вы! - Маша быстро подала все еще сотрясающейся от крупных всхлипов бунике Гале первое попавшееся под руку полотенце. Тут Элина, глядя недоуменно на всю эту картину, принялась вовсю громко реветь. Маша потянула ее за руку к себе, прижала ее головку к своему подолу и почему-то изменившимся голосом медленно произнесла в пространство:
- Ну вот... Сейчас и я зареву...
И действительно: две крупные слезы уже готовы были выкатиться наружу из ее сильно повлажневших добрых глаз.
- Все, все, все! Все детки давно успокоились! Все детки давно перестали плакать! - строгим садиковым тоном громко произнесла фразу Маша. - Вон любопытные синички заглядывают в окошко! А мы им покажем, что всем деткам - весело! ... Так что же случилось, Галина Владимировна? - после небольшой паузы переспросила Маша бунику Галю.
Элина перестала реветь и держалась за машин подол. Уставилась, не мигая, на бунику Галю.
- Так! Золотко, пожалуйста, беги в свою комнату, возьми попугайчика и с ним - быстро в постель! Он уже давно зевает и ждет, когда ты его уложишь спать, - Маша подтолкнула Элину к входу в ее комнату. - Давай, давай! Дети не должны присутствовать при разговоре взрослых! Давай беги, моя умница!
Элина, нехотя, молча поплелась к себе. Буника Галя, наконец, успокоившись, начала снимать с себя верхнюю одежду. Потом так же молча задвинула в первый попавшийся угол все свои сумки и присела, вздохнув, на тот же стул здесь, у двери. Маша вопросительно глядела на нее.
- Уезжаю я сегодня вечером, - наконец проговорила тихо буника Галя. - Далеко и надолго...
Маша молчала.
- В Италию... Работать...
- Да вы что? - Маша чуть не подскочила от такого сообщения. - В вашем-то возрасте! Вы что? Патричия вон Раду, здорового молодого мужика, никак не может заставить, а вам-то каково будет на чужбине? А мужа своего как вы оставите одного?
- А! - отмахнулась досадливо буника Галя. - Ничего с ним не станется! Пусть сам поживет! Он в свое время очень сильно нагулялся. Вот пусть теперь отдохнет. К тому же мы на наши пенсии не протянем долго. А Патричия, сами видите, без квартиры. До сих пор. Я ведь медсестра. Может, и сгожусь там.
- Да как же вы едете-то? Наверно, без визы? А язык?
- Как-нибудь... Бог в беде не оставит... Пока оформили, что я еду на какой-то там симпозиум, а потом я уже не вернусь...Там наших молдаван много, обещали помочь устроиться.
- Не знаю, не знаю, - Маша недоверчиво и как-то по-новому смотрела на бунику Галю. - У нас вон соседка по подъезду тоже была в Италии. Полтора года. Все это время, говорит, спали по шесть человек в ванной у хозяина. Но она - молодая! Чуть больше тридцати!
- Как Бог даст! - вздохнула буника Галя. - Выхода у нас - никакого. Вы уж тут приглядите, пожалуйста, за моими девочками. Одни ведь остаются. Может, заработаю им на квартиру...
Она позвонила только через месяц. Наконец-то ей удалось устроиться в одном маленьком городишке на юге Италии. Взяли ее сиделкой к парализованной старухе, которая, имея двух дочерей, одна живет в своем доме. Дочери и наняли сиделку за восемьсот долларов в месяц. Патричия не скрывала своей радости: ей самой за такие деньги надо здесь работать полтора года. От сообщения тещи стало хуже Раду: приходя к ним домой, Маша все чаще и чаще обнаруживала, что очередную ночь оно провел на полу "в салуне".
... Прошел еще год. Элина пошла в школу. Маше пришлось осваивать новые функции: подготовку домашних заданий с вновь испеченной школьницей. Хотя дело это было для Маши не новое - последнее время в школе она работала на "продленке" и потому в совершенстве владела всеми тонкостями этого, можно сказать, искусства, - но все осложнялось тем, что она не знала языка, а Элина не всегда могла все правильно перевести из учебника. Элина нервничала и часто начинала реветь: мамика запрещала ей звонить к себе на работу и что-либо спрашивать, а попробуй принеси домой по любому предмету оценку меньше десятки, получишь такой нагоняй... В подобных ситуациях Маша начинала названивать мне, сидевшему уже в ту пору дома. Я разбирался в элининых проблемах и все оставались довольны. Рев прекращался. Вскоре Элина сама, без Маши, бойко названивала мне, и мы вместе с ней к обоюдному нашему удовольствию выполняли школьные задания. Эта идиллия иногда заканчивалась наказанием Элины, когда та случайно проговаривалась обо всем своей мамике. Патричия категорически запрещала ребенку прибегать к чьей-либо помощи в школьных делах. Мы с Машей этого никак не понимали, но Патричия на этот счет не принимала ни малейшего совета: в такие моменты она просто деревянела, глаза ее становились холодными и злыми, и ответ бывал всегда одинаков: "Это - мои проблемы". Не суйтесь, де, не в свое дело. В такие минуты нам было очень больно, но мы ей не перечили: ребенок все-таки не наш, хотя в душе мы так не считали. Особенно страдала Маша и я, видя ее страдания, яростно вспыхивал и порывался пропесочить эту мамику, на что Маша, зная мою несдержанность, буквально висла на мне и уводила куда-нибудь подальше от греха. А когда я немного успокаивался, начинала выговаривать мне и, в конце концов, всегда защищала Патричию. Удивительно! Вроде бы сама только что возмущалась, а попробуй я вмешаться в это дело, она тут же становилась на сторону Патричии. Да так яростно, будто я - злодей какой! Я чувствовал, что Маша в душе осуждает Патричию, но я... я даже не моги ничего худого и подумать при ней про ее девочку!
Но я все же нашел выход. Начал сам звонить Элине: не нужна, мол, помощь? В ответ ребенок меня отчитывал строгим голосом: мамика же, де, не разрешает, чтобы ты помогал!
- А я и не помогаю. Я знаю, что ты математику еще не сделала, - врал я.
- Откуда ты знаешь? - удивлялась Элина, - тебе буника звонила?
- Да нет. Я - телепат. Я сам все вижу.
- Что это "телепат"? - не понимала Элина.
- А это такие дедушки, которые все видят, что делают их внучки. Вот я, например, вижу, что у тебя сейчас проблемы с математикой. Только точно не могу рассмотреть, какие. Отсюда видно плоховато.
Удивленная Элина тут же начинала мне все, что я "не видел", уточнять и таким образом мы с ней справлялись с заданиями. Маша, хоть и не понимала, о чем мы с Элиной болтали, но догадывалась, и дома меня ожидал нешуточный нагоняй.
Буника Галя за этот год несколько раз передавала по случаю подарки для Элины: разные сладости, кое-что из одежды. Ребенок сиял. Если приходили сладости, Элина тут же набирала их, сколько могла, и старательно рассовывала Маше по карманам:
- Это, - говорит, - тебе, а это - бунелу, - то есть мне.
- А как же, - как-то спросила Маша Патричию, - как живет твой отец? Ведь уже год, как он один. Он же болен, ты говорила?
- Мама ему звонит иногда оттуда. Говорит нам, что стонет он все, когда она ему звонит. Иногда плачет в трубку и умоляет, чтобы вернулась домой. Мол, очень плох он. Собирается помирать.
- Ну а мама?
- Она ему отвечает, чтоб не морочил ей голову. Что пока есть такая работа, она будет там. А с ним, мол, ничего не станется. Да и что они вдвоем тут будут делать со своими никакими пенсиями?- заключила Патричия. - Голодать?
- Но отец же все-таки один остался. И больной. За ним уход нужен...
- Ничего с ним не сделается! - раздраженно оборвала Патричия Машу. - Мы к нему с Раду ездим почти каждую неделю! Я вот и в больницу его клала здесь, в Кишиневе. Немного подлечили его сердце. Все-таки мама в Италии такие деньги зарабатывает!
- Да всех денег не заработаешь, Патричия! - Маша пыталась ее как-то переубедить. Но бесполезно.
- Я сама ищу возможность, чтобы вырваться отсюда за границу! - повышала тон Патричия, - живем, как бомжи!
- Дело ваше, - замолкала Маша.
Но все-таки, все-таки... Все-таки отец Патричии умер. В один из дней Маша с Элиной делали уроки. Элина только-только пришла из школы, Маша быстренько помогла ей раздеться и усадила сразу же за стол обедать. Элина сказала, что сегодня очень много задали на дом и потому, съев на редкость быстро свой обед, она тут же уселась за письменный стол делать уроки. Маша, перемыв всю посуду, пришла к Элине в комнату и присела около стола: Элина любила делать уроки, когда буника сидела рядом. Когда Элине что-либо не удавалось с уроками, она залезала тут же к Маше на колени, обнимала ее своими горячими ручками и тыкалась носиком ей в грудь.
- Куда ты! - якобы сердилась Маша. - Гляди, ты уже почти с меня вымахала, а все - на колени! - Она понимала, что ребенок ищет у нее защиты, что ему в эти минуты нужна помощь.
В этот день как раз Элина и забралась сразу на колени к Маше. Вдруг неожиданно в их металлическую дверь начали чем-то сильно колотить да так, что обе, Маша и Элина, просто впали в столбняк. Маша перепугалась до икоты, а Элина, тоже с перепугу, начала громко реветь. Маша, наконец, немного придя в себя, нетвердой походкой подошла к двери, ходуном ходившей от непрекращающегося грохота и, открыв непослушными руками первую, неметаллическую дверь, севшим от страха голосом спросила:
- Кто там?
- Это - я, я! Патричия! - послышался резкий незнакомый крик. - Открывайте скорее!
- Маша дрожащими руками никак не могла отодвинуть в сторону две тугие защелки замка: силы совсем ее покинули.
- Да открывайте же скорей! - в истерике прокричали с той стороны двери, - открывайте! Папа мой... Папа мой...умер! Открывайте же! - Маша услышала, как Патричия там, за дверью, разрыдалась.
Маша все возилась и возилась с замком, в котором где-то что-то заклинило. А может, это заклинило в ней самой. Дверь никак не открывалась... Но вдруг защелки сами прыгнули в сторону, будто кто-то посторонний их мигом отодвинул, и дверь распахнулась. На пороге стояла вся зареванная и с почти безумным взглядом Патричия. В руке, как пику, она держала длинный шкворень - ключ от их замка.
- Папа мой умер, - обессилено произнесла слабым голосом Патричия и опустилась на пол тут же в проеме двери...
Мать, буника Галя, на похороны мужа не приехала: она была на нелегальном положении и уже бы не смогла обратно вернуться. А работу бросать она не желала. Тем более, что парализованная старушка, за которой она ухаживала, оказалась на редкость живучей и в обозримом будущем отходить в мир иной ничуть не собиралась. Доллары с нее капали и капали, смывая с души буники Гали последние угрызения совести...
Надоело спать "в салуне" на полу Раду. В один из дней он, обычно поздно приходивший с работы, неожиданно появился дома днем. Собрав быстро в небольшую дорожную сумку какие-то вещи, вытащил из бокового кармана потертой кожаной куртки, в которой он разве что не спал, небольшую пачку денег и протянул ее ничего не подозревавшей Маше:
- Передайте Патричии. Я уезжаю.
Маша, приученная не задавать лишних вопросов, молча взяла деньги и положила их на телевизор. Раду прошел в комнату Элины, делавшей в это время уроки, поцеловал ее и... ушел. Как оказалось, ушел насовсем. Навсегда. Уехал-таки за границу, как мечтала об этом Патричия. Уехал подальше от всего, что было ему так дорого. Уехал, чтобы никогда больше к этому не возвратиться...
Спустя почти полмесяца после этого события ранним субботним утром, когда мы еще спали, у нас дома раздался телефонный звонок. Звонила Патричия.
- Что случилось, золотко? - сонным голосом спросила Маша. - Что-нибудь произошло?
- Произошло, - дрожащим голосом нервно ответила Патричия. - Мы с Элиной сейчас придем к вам.
- Хорошо, я жду. - Маша положила трубку и сразу кинулась одеваться. - Что-то там с девочками моими случилось, что-то случилось... - Маша никак не могла попасть в рукав халата: ее колотила мелкая дрожь. - Что-то случилось с моими девочками...
- Успокойся ты, - попробовал заговорить я, но она меня уже не слушала...
Я тоже подхватился с постели и начал одеваться. Что же там такого произошло?
- Что-то там с девочками моими случилось, что-то случилось, - как заведенная, повторяла Маша. - Я всегда это чувствую...
Девочки позвонили в дверь минут через двадцать. Открыв дверь, мы оба обомлели: Патричия стояла перед нами, одетая по-дорожному. В руках у нее были две огромные дорожные сумки, доотказа набитые вещами. Чуть поменьше этих, у нее через плечо висела третья. Вид у Патричии был совершенно отрешенный. Позади нее, вся зареванная, стояла Элина. За плечами у нее был красный школьный ранец. Одной рукой она прижимала к себе их пушистую серую кошку Дону, а в другой у нее была давно заигранная, без одной руки кукла Барби. Мы с Машей молча посторонились, давая войти в квартиру этой странной утренней процессии. Патричия с тудом втащила в прихожую свои здоровенные сумки и, глядя мимо нас, молча уселась на одну из них. Элина вошла следом за матерью, не выпуская ничего из рук, встала возле Патричии. Маша медленно обогнула обеих и закрыла за ними дверь. Вернулась на прежнее место, где стоял и я, пригвожденный всем происходящим.
- Ну, - наконец нарушила паузу Маша, - что случилось? Уезжаете?
- Я уезжаю, - повернулась к ней Патричия. - Прямо сейчас. Самолет - в десять. Пусть пока она, - Патричия кивнула на дочь, как на чужую, - пусть пока она у вас побудет... вот ее вещи. - Она встала и указала на две стоящие сумки. - Вот деньги... На первый случай... Потом... вышлю... еще... - Она старалась держаться спокойнее. Как можно спокойнее. Но это ей плохо удавалось, потому что слезы неудержимо катились ручьем по ее наспех припудренным щекам. Элина, не выпуская из рук кошку и куклу, подбежала к Маше, уткнулась ей в грудь и начала так реветь, что у меня по коже поползли мурашки.
- Господи! Что ж это ты надумала-то! - Маша с трясущимися губами подошла к Патричии, взяла ее, как маленькую, за руку и стала просительно заглядывать ей в глаза. - Куда это тебя нелегкая несет? Пропадешь одна-то!
- Н..н..н...на Кипр, ннн-а-а Кипр, - стуча зубами от волнения и горя, чуть слышно произнесла Патричия. - По договору. Зз-арра-бо-тттаю немного денег... На квартиру... Нам ведь с Элиной жить негде...Вот заработаю...
Так она и уехала. Элина осталась с нами. Без отца и без матери. Без бабушки и без дедушки. И сразу вместо десяток начала приносить из школы еле-еле шестерки: никаких уроков готовить не хотела. Целыми днями сидела дома и смотрела в окно, выходящее на дорогу, по которой день и ночь проносились машины. Ждала своих мамику и татику. Ни от кого из них не было ни слуху, ни духу...
Прошло еще полгода. Элина немного успокоилась, начала улыбаться. Школьный год под большим Машиным напором закончила удовлетворительно. Но от ежедневного стояния у окна и глядения на дорогу мы с Машей так и не смогли ее отвлечь. Более того, глядя в окно, она начинала негромко затягивать одну и ту же незнакомую нам заунывную мелодию. Мелодию, от которой у нас наворачивались слезы и останавливалось сердце. В такие минуты мы с Машей Элину не трогали и старались тихонько заниматься своими делами, как будто ничего не происходило.
Однажды я проснулся среди ночи: показалось, что кто-то дважды позвонил в дверь. Маши в постели не было. Охваченный каким-то недобрым предчувствием, я быстро встал с постели и, стараясь не шуметь, на цыпочках босиком направился в прихожую узнать, в чем дело. Осторожно вышел из спальни и увидел в коридоре полоску света, пробивавшегося из полуоткрытой двери комнаты, где у нас спала Элина. Тихонько заглянул вовнутрь. Чудо, которое я когда-то впервые увидел у нас в доме, сладко спало на мягком диванчике, мирно посапывая и разбросав в стороны свои смуглые ручки. Черные густые волосы разметались веером по цветной подушке, готовой вот-вот свалиться на пол. Одеяло почти съехало на бок. В неярком приглушенном свете ночного светильника я почувствовал какое-то шевеление и испугался. Замерев, я услышал какой-то неясный шепот. Решился и просунул голову в щель двери, подальше. Почти у самого окна я увидел Машу, стоящую на коленях. Она молилась.
- Боже, - разобрал я, прислушавшись, - Боже Всемилостивейший! Молю Тебя! Не дай мне раньше времени умереть! Пропадет тогда без меня мое солнышко!..
23 февраля 2002 г. Кишинев
Мороженое счастье
...Всю ночь Даниловна ворочалась с боку на бок на своей узкой и жёсткой кровати. Крепкий и здоровый сон никак не шёл: всё какая-то болезненная дремота. То в голове гвоздём сидел вопрос, чем же утром хоть кое-как позавтракать, то не давал покоя внук Димка, пославший её на три известные буквы, когда она ему вечером пеняла, что стоило бы ему хоть чем-нибудь заняться и как-то помочь их небольшой семье материально. Надо же, какой байбак вырос! Только год отучился в лицее и уже половину предметов завалил! За второй год за его учёбу платить совсем нечем да и документов никаких ему не выдают: пусть, мол, сдаст хвосты сначала... А он возьми да и брось всё! Вот и сидит дома: ни тебе дальше в школу, ни в лицей, ни на какую-никакую работу! Сидит и всё! Не хочу, мол, ничего делать! А ты, бабка, мол, уже так допекла, так шкуру содрала до крови своим шершавым, как у старой коровы, языком, что пошла-ка ты... Воспитали! Доносилась я с ним, как дурень с писаной торбой! Правильно дочка постоянно ругала: мол, что ты с ним, старая, носишься, да его выпороть давно пора, дать ему хорошего ремня, чтобы как-то мозги ему вправить, так не давала же! Ни Боже упаси! Вот и дождалась учительница русского языка и литературы от своего родного внука. Дождалась в свой адрес благодарности в виде ненормативной лексики.
Да откуда ребёнок мог что-то иное почерпнуть? Вырос-то уже в это смутное и страшное время, время, когда она уже была на пенсии, а дочка с мужем - в постоянно подвешенном состоянии. В их небольшой двухкомнатной квартирке все эти проклятые годы почти каждый день вспыхивала ссора. И не только постоянное отсутствие денег было тому причиной. Если бы только это... Как-то бы смогли пережить-перетерпеть. А как вынести каждодневный злобный взгляд зятя? Его, местного, неизвестно каким ветром занесённого в эту русскую семью, последние годы раздражала в них каждая мелочь. В унисон лозунгам на центральной площади города он и им кричал в минуты полной откровенности "Чемодан-вокзал-Россия!", искренне надеясь, что наконец-то в этой квартире появится настоящий хозяин, а не эта въедливая старая училка, которая до сих пор не хочет его прописывать у себя, и он числится постоянным жильцом квартиры своей сестры вот уже два десятилетия.
Докричался! Теперь и самого выгнали с работы его же дружки, за которых он так ратовал, пытаясь изгнать и свою семью с этой земли! Достукался! Журналист! Дожил до шестидесяти лет и ума совсем не нажил! Сидел бы в своей малотиражке и носа не высовывал. Так нет же, ему политику подавай. Да забыл, что власть-то меняется: на смену одной деревне приходит другая. Со своими кумэтрами, нанашами и свояками. Теперь вот уже почти год сидит дома, лежебочничает. На работу никуда не берут, да он и не сильно-то рвётся Ждёт пенсии. А до неё-то с нашими новыми законами ещё ого-го! А есть-пить давай каждый день. Да ещё такому двухметровому дылде. Да ещё и винца надо как-то исхитрятся покупать: как же молдавану без вина! А на какие шиши? На её учительскую пенсию, которая и так - одни слёзы?
Нет, сегодня, видно, никак не уснуть... Димка вон в углу на старом диванчике что-то во сне зубами скрипит... Так и спит с ней с рожденья в этой никогда не знавшей ремонта комнатке. А в соседней - Аня с этим Мишкой. Кажется, тоже не спят: из-под двери пробивается полоска света. Три часа ночи... Вот Аня, бедная Аня! На кой чёрт я тянулась и давала ей высшее образование? Работала бы какой-нибудь торговкой, зато сейчас бы полегче было. Так нет, все хотели быть грамотными! Партия велела всем учиться! А где она сегодня эта партия? Господа партийные бросили свой народ на произвол судьбы, а сами запели иные песни. А такие, как Аня, верующие, остались ни с чем. Теперь вот моет каждый день полы в школе и в какой-то пьяной забегаловке и благодарит Бога, что хоть такая работа иногда перепадает. Иначе ложись и помирай.
Нет, сегодня никак не заснуть... Димочка вот вечно ходит голодный. Длинный-то стал, а худой, как тростинка! Какую баланду ни приготовишь, всё сметает моментально! Забыли, когда сальце нюхали! Маленький! От постоянного голода и ругается! Да разве ж я виновата, что в доме почти каждый день - ни крупинки? Задолжали за эти проклятые комунальные услуги столько, что уже вот-вот начнут выселять из собственной квартиры! А в город выедешь - одни особняки прут и прут изо всех щелей. Да красивые какие! Как на лубочных картинках! А какие иномарки важно шуршат широкими шинами по проспектам! Не наше время... Ох, не наше... Тут Даниловна вдруг вспомнила, что вчера днём ей повезло: она встретила по пути в хлебную палатку свою бывшую коллегу-учительницу, живущую тут неподалёку, с которой они часто перезваниваются и которая пообещала дать ей несколько сосисок для их старой кошки. Мол, сосиски эти - какие-то подозрительные. Она их боится есть, пусть хоть для кошки пойдут, жалко выбрасывать. Ничего! Слава Богу, принесла три сосиски! Мы их хорошенечко прожарим-пропарим и будет нам обед-завтрак! А там - что Бог даст! Тут, наконец, к Даниловне пришёл сон и она со счастливой улыбкой на стареньком сморщенном лице отправилась в царство Морфея...
Состояние праздника не покинуло Даниловну и на следующий день. Это был действительно официальный праздничный день - День города. С утра кое-как принарядившись, она отправилась в центр в надежде, что хоть в этот день она немножко отойдёт от тяжелой домашней обстаноки. Аня уже давно убежала на рынок: там её обещали устроить продавать по выходным старое заграничное тряпьё. Зятёк, как обычно, валялся в постели. Димочка тоже был в постели, несмотря на довольно позднее утро. Про сосиски она никому не говорила, собираясь из них приготовить обед, так что для вставания с постели особых причин у отца с сыном не было: завтрак и не намечался.
В центре города, на его главном проспекте, среди празднично одетых людей и разнообразных выставок всяких изделий различных предприятий, учреждений и фирм Даниловна как-то приободрилась, похорошела, даже фигура её выпрямилась и демонстрировала некоторую солидарность с сытым и нарядным людом, вяло прохаживающимся туда-сюда среди всей этой городской бутафории счастья и достижений. Правда, она не подходила близко к выставкам разнообразных съестных изделий: боялась, что не выдержит и упадёт в голодный обморок. Но на плакаты и лозунги глядела истово и радовалась их нарядному виду.
Вдруг кто-то тихонько тронул её за плечо: "Нина Даниловна?" Она, вздрогнув, быстро обернулась. Перед ней стояла пара: мужчина и женщина. Обоим лет за сорок. Оба - в новеньких кожаных полупальто. От обоих немного пахло вином и дорогими духами. "Не узнаёте, Нина Даниловна?" "Нн-е-ет!, - удивлённо протянула Даниловна, - не узнаю". Она вдруг как-то согнулась вся, вся сморщилась, уменьшилась в размерах в своей сильно потёртой чёрной юбке и нелепой зелёной старомодной кофте, местами сильно побитой молью, не зная куда девать старые чёрные кроссовки, в которые она была обута и которые были на три размера больше, отчего их носы были слегка загнуты кверху. Её абсолютно белая голова, стриженая под мальчика, невольно потянулась в сторону небольшого подносика в руках мужчины, на котором горкой красовались несколько пирожных и стояла бутылка красного дорогого вина. Даниловна невольно сглотнула слюну, не в силах перевести взгляд на лица остановивших её людей. "Вы были у нас классным руководителем в восьмом "Б". В 197.. году, помните? Мы..." Тут они принялись наперебой называть свои фамилии, напоминать ей, как она вызывала в школу их родителей, рассказывать ей, как они потом учились дальше, потом поженились... Даниловна внимательно всматривалась в эти чем-то знакомые ей лица и пыталась вспомнить те далёкие-далёкие детали её школьной жизни, о которых напоминали ей эти двое взрослых, по всей видимости, хорошо обеспеченных людей. Но воспоминания приходили плохо. Даниловна нет-нет да бросала голодные взгляды на небольшой подносик с горкой пирожных, который держал в одной руке по-видимому её быший ученик...
На следующий день, едва дождавшись утра, она позвонила своей школьной коллеге, выручившей её подпорченными сосисками, и захлёбываясь от переполнявшей её радости, принялась рассказывать о счастливом вчерашнем дне, проведённом ею на празднике Дня города, о встрече с её бышими учениками. "Я, как и все нормальные люди, вчера ела пирожные и мороженое", - с гордостью поведала она и тихонько положила трубку, на которую капали и капали холодные старческие слёзы...
15.10.2004 г. Кишинёв
Урок литературы
Сегодня Лидии Захаровне что-то неможилось: сильно ломило спину и противная дрожь в ногах не позволяла передвигаться даже по квартире. К тому же и с головой что-то неладилось: то ли болела, то ли кружилась немного. Но на такую мелочь Лидия Захаровна уже давно привыкла не обращать внимания: её долгая учительская деятельность приучила её к этому. Вот спина... Лидия Захаровна с самого утра, когда только-только что встала с постели и принялась собираться в школу, сразу почувствовала свою спину. Ни встать, ни согнуться, ни разогнуться. Она по-привычке решила не обращать внимание, мол, разойдётся все, разомнётся и поутихнет и поэтому начала быстро собираться на занятия: у неё был первый урок в восьмом "Б". Должно было быть сочинение. Тема была очень важной: "Патриотизм в Советской литературе". Никак нельзя пропустить. Директриса на днях вызывала её к себе и вне плана приказала провести в старших классах сочинение на тему любви к Родине, к Партии, к Великому Сталину.
Стояла зима 1945-го года, их небольшой посёлок ещё не остыл от недавней оккупации, от жарких партизанских боёв в окружающих его горах, покрытых густыми малопроходимыми лесами, от жестоких бомбардировок и артобстрелов, после которых, наконец-то, повыгоняли немцев, грабивших тут всех и вся, каждый день шарашивших по дворам с требованием "Мамка, давай млеко, курка, яйки, чушка давай!" и за малейшее непослушание стрелявших без разбора из своих куцых автоматов направо и налево.
Несмотря на то, что уже почти год, как школа начала вновь действовать, в классах было по три с половиной калеки, писать было не на чем и нечем. Но если с ручками и чернилами ещё кое-как обходились (ручки с почти уже поржавевшими перьями сохранились ещё с довоенных времён, а чернила готовили из ягод бузины, обильно произроставшей в этих местах), то с тетрадками была прсто беда. Даже и бедой то это положение назвать не поворачивался язык: тетрадок просто никаких и не было. Нигде. Ни у кого. Во всём посёлке их было не сыскать. Не было и всё. Вместо тетрадок ребятня писала на старых газетах, которые директриса получала в районе строго по лимиту и также строго по лимиту выделяла их на каждый класс. Зато домашним было хорошо: сначала они прочитывали старые газеты, обсуждали дома все почерпнутые из них новости, а уже потом с большим трудом разбирали в них каракули своих отпрысков.
Сочинение никак нельзя было пропустить. Лидия Захаровна, кое-как одевшись, пошла было к выходу, захватив с собой небольшую холщёвую женскую сумочку, но не дошла: голова сильно закружилась, по телу пошёл холодный озноб, её затрясло, и она едва удержалась на слабых ногах, не дойдя шага до двери в сенцы. "Школа-то, вот она, прямо через дорогу, дойду как-нибудь", - подумала быстро она и попыталась оторваться от стенки, к которой её прибил озноб. Да не тут-то было: не получалось ровно стать: ноги не слушались и в спину что-то так вступило, что никак нельзя было разогнуться. Лидия Захаровна кое-как по стенке, по стенке пошла назад в комнату, дошла до своей кровати да так и упала на неё, чуть было совсем не испустив дух: ей стало совсем плохо. Так ничком и в верхней одежде и продолжала лежать. Сил подняться и раздеться уже не осталось...
Лидия Захаровна жила в своём небольшом учительском домике одна. В начале тридцатых ей с мужем и сыном домик выделила школа. Муж работал в этой же школе учителем математики. Домик располагался прямо против их школы и был такой же красно-кирпичный, как и их одноэтажная десятилетка, гордость посёлка, выстроенная тогда же в начале тридцатых: существовавшая в посёлке начальная школа не справлялась с ликвидацией безграмотности взрослых и обучением их детей в бурно развивавшемся посёлке, вблизи которого открыли нефть и в который хлынул рабочий люд на нефтеразработки.
С началом войны муж ушёл на фронт, а когда пришли немцы, сын убежал к партизанам. Там он и погиб незадолго до освобождения посёлка. Его и ещё нескольких ребят торжественно перезахоронили в центре посёлка сразу после того, как выбили немцев. Лидия Захаровна на этой церемонии упала в глубокий обморок, из которого её вывели только на следующий день фельдшера местной поликлиники, открытой за день до церемонии перезахоронения и созданной на базе медсанбата части, освобождавшей их посёлок. Спустя полтора месяца после описываемых событий, она получила похоронку на мужа, которая почти три года болталась где-то по штабам из-за невозможности доставить её по месту жительства адресата. Осталась совсем одна эта старая учительница литературы...
Она лежала ничком на кровати, боясь пошевельнуться. Озноб никак не проходил. Сил подняться, раздеться и лечь в постель совсем не было. В комнате было холодно: печь ещё с ночи остыла. "Может, в школе хватятся меня да прибегут, - невесело думала она. - Рядом ведь. А то, не дай Бог, так и помру одна тут в холоде." Потом она понемногу забылась.
Разбудил её какой-то нерешительный стук в дверь. Будто кто-то стеснялся её потревожить. "Ну, наконец-то! Хватились!" - с облегчением подумала Лидия Захаровна и от пришедшей помощи ей вдруг стало легче. Она, постанывая, поднялась с кровати и медленно, почти наощупь, пошла в сенцы открывать входную дверь. Вновь послышался осторожный стук. "Иду-иду! - слабо прокричала Лидия Захаровна, - Иду!" "Наверно, прислали какого-нибудь ученика узнать в чём дело", - подумала она и принялась отворять засов, даже не спросив, кто это так осторожно стучал в её дверь.
На пороге стоял незнакомый военный. В солдатской шинели, шапке-ушанке с опущенными ушами и с вещмешком на плече, он переминался с ноги на ногу и его блестящие хромовые сапоги хрустели при каждом новом движении их хозяина. Лидия Захаровна мало что понимала в военном обмундировании, но про себя почему-то отметила именно эти блестящие хромовые сапоги, хрустящие на пятнадцатиградусном морозе, стоявшем сегодня на дворе. "Как будто снял с убитого офицера", - почему-то пришла ей в голову крамольная мысль и она быстро перевела глаза с сапог пришельца, переминавшегося на крыльце, на него самого.
- Вам кого?, - кутаясь поглубже в своё неснятое с самого утра пальто, отчего на улице в нём стало необыкновенно холодно, спросила она. - Вам кого? - повторила она своим требовательным учительским голосом.
Не узнаёте, Лидия Захаровна? - спросил тут же её военный. - Не узнаёте? - для большей убедительности быстро повторил он.
- Не уз... - начала, было, учительница, глядя пристально на военного. - Миша, что ли? Шахрай? - закончила она. - Ты что ли, Миша?
- Я, я - закивал утвердительно военный, - он самый, Шахрай. Рядовой Шахрай в родные места после тяжёлого ранения прибыл! - бодро отрапортовал учительнице военный. - Вот пришёл проведать свою любимую учительницу. Как, пустите? - вопросительно глядя в глаза Лидии Захаровне, закончил он, почему-то оглядываясь по сторонам. Домик Лидии Захаровны стоял у самой улицы боком к ней, стоял совсем голым, безо всяких палисадничков с заборчиками из штакетника, как у соседей, и походил на одинокую его хозяйку. Поэтому всяк входивший в него был виден не только из соседних со стороны его фасада домов, но и из домов с другой стороны улицы, с той стороны, на которой располагалась школа. "Наверно разведчиком был на фронте", - подумала, улыбаясь про себя, учительница, от профессионального взгляда которой не ускользнуло это движение её бывшего ученика..
- Входи, входи, Миша, гостем будешь, - произнесла Лидия Захаровна, распахивая шире входную дверь и пропуская в полутёмные сенцы мимо себя гостя. - Открывай дверь в дом!
Сама же она принялась закрывать на засов дверь на улицу, удивляясь в душе, что такой разгильдяй и хулиган, как этот Мишка Шахрай, соизволил прийти проведать учителку, которую он всегда ненавидел из-за того, что его родители постоянно вызывались ею в школу, потому что он ровно через день срывал занятия по какому-либо предмету. "Видимо, война не только ожесточает, но и очищает людские души. А может, он просто повзрослел", - примирительно подумала старая учительница и пошла потихоньку в дом вслед за своим бывшим учеником.
- Приболела я что-то сегодня, Миша, - извиняющимся тоном обратилась она к Шахраю. - Вот и в школу не смогла пойти. Думала, что кто-то из школы пришёл меня навестить, когда услышала твой стук в дверь.
- Ну, мы вас сейчас быстро на ноги поставим! - весело засуетился Шахрай, проворно вынимая из своего вещмешка и выкладывая на стол в кухне, куда они только что зашли, буханку чёрного хлеба, литровку водки и две банки свиной тушёнки. - Танцевать начнёте, не то, что в школу пойти!
Он тщательно очистил буханку и банки с тушёнкой от густо прилипших к ним ворсинок пакли, которая пряталась по закоулкам его солдатского походного склада, не снимая шинели, решительно, по-хозяйски, уселся за стол, пододвинув к стоявшей рядом учительнице свободную табуретку и жестом пригласил её последовать его примеру. Лидия Захаровна боялась смотреть на такое количество давно не виданной ею еды и застыла у стола, как в столбняке, напрочь позабыв о своём недавнем недомогании. Старалась не показать гостю, что она постоянно сглатывает неудержимо выделяющуюся у неё во рту голодную слюну.
...Когда почти молча выпили сначала по первой - за Победу, а по второй - за Сталина, когда под властным нажимом бывшего ученика Лидия Захаровна осторожно поела хлебца со свининкой, разговор пошёл побойчее, повеселее. Начали вспоминать довоенную школу, ребят, учителей. Не забыли и войну. Лидия Захаровна рассказала, что теперь она совсем одна-одинёшенька, совсем постарела и не знает, как дальше жить. К сыночку хоть на могилку можно сходить, а вот где её муж Василий Прохорович, в какой землице он мается, то неведомо ей. А сколько таких, как её муж и сын...
- Тебе, Миша, сильно повезло, что остался жив, - плакала Лидия Захаровна, - вот устроишься как-нибудь, женишься, детишки пойдут... Заживёшь... А мне уж...
Шахрай угрюмо молчал, смотрел куда-то в угол комнаты да подливал себе водки...
- Жизнь... Она у тебя, Миша, только начинается. Помнишь, как у Николая Островского в его романе "Как закалялась сталь": "Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать..."
- Я никак не мог заучить это... на ваших уроках... Никак... - перебил учительницу Шахрай, пьяно мотнув головой в ушанке, которую он так и не снял, как и шинель: будто находился где-нибудь на привале. Потом залил в себя очередной стаканчик. - Зачем учить... такие длинные... куски?
- Учить надо, Миша, чтобы быть лучше, чтобы делать вокруг себя всё и всех лучше... Чтобы человек оставался всегда Человеком, не превращался в зверя и не уничтожал себе подобных. Будь то из-за несходства мыслей или из-за куска хлеба или какой тряпки. Помнишь, как у Чехова...
Не надо этого... Не надо... - поднимаясь из-за стола, мрачно проговорил Шахрай. - Спасибо, Лидия Захаровна. А то я сейчас заплачу... Мне пора уже... А то вас придут навестить...
- Да, да, Миша! Конечно! Я так благодарна тебе, что ты не забыл меня, что зашёл навестить свою старую одинокую учительницу... Накормил, вот... - она покраснела при этих словах. - Пойдём, Мишенька, я тебя провожу... Приходи ещё, когда пожелаешь...
Лидия Захаровна торопливо вылезла из-за стола и направилась к выходу. Шахрай, не глядя на свой вещмешок, брошенный открытым возле стола, за которым протекала их трапеза, тут же направился вслед за учительницей. Когла они подходили к сенцам, он быстро вытащил из бокового кармана своей шинели трофейный "Кольт" и, не целясь, выстрелил ей прямо в затылок... Затем спокойно вернулся к столу, допил водку, аккуратно сложил остатки пищи обратно в свой вещмешок, сопя, крепко его завязал. Потом, немного о чём-то подумав, вновь развязал вещмешок, бросил его на табуретку и пошёл осматривать единственную комнатушку в этом доме. Сначала занлянул под матрас. Матрасик был старенький, слежавшийся и в некоторых местах из него торчала вата. Ничего не обнаружив под матрасом, Шахрай тщательно его прощупал, перебрал пальцами чуть ли не каждую ворсинку ваты, но и так ничего не нашёл. Затем он принялся осматривать старый двустворчатый платяной шкаф. Но и там ничего полезного для себя не обнаружил. В шкафу хранилось стиранное-перестиранное нижнее и постельное бельё да одно какое-то кремового цвета поношенное платье. Похоже, что такое он видел на немецких фрау. Подумав, он сунул платье в вещмешок. Сбоку шкафа на криво прибитом гвозде он обнаружил белый мужской овчиный полушубок. Обрадовавшись, наконец, он быстро стащил с себя шинель, затолкал её в вещмешок, переложил "Кольт" в карман полушубка, надел полушубок на себя и направился к выходу. Аккуратно переступил через лежавшую в луже крови учительницу и только открыл дверь на улицу, как нос к носу столкнулся с женщиной, уже поднимавшейся в дом по ступенькам.
- Здравствуйте, - сказала женщина. - Лидия Захаровна дома? Вот соли прибежала занять, - извиняясь, улыбнулась она. - Лидия Захаровна всегда меня выручает по-соседски. Золотой человек!
- Здравствуйте, - ровно сказал Шахрай. - Я тут...
Он молча полез в карман полушубка, спокойно достал "Кольт". Завидя всё это, соседка, ойкнув, кинулась, было, бежать, но выстрел настиг её на последней ступеньке. Она ткнулась лицом в снег, дёрнулась и затихла...
Шахрая взяли через каких-то сорок минут в забегаловке, находившейся в центре посёлка и всегда полной недавними фронтовиками, постоянно выяснявшими между собой отношения по поводу того, кто из них главней и на каком фронте кто бил гада. Редко обходилось без стрельбы. Шахраю не хватило водки и он пытался сменять полушубок и поношенное платье, взятые у убитой им учительницы, на две бутылки водки. Когда его с заломленными назад руками двое милиционеров запихивали в "Газик", он мычал непослушными губами: "Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно..."
17.12.04. г. Кишинёв
Серый
"Перед выбором...
9-е ноября 2004 года. На дворе - +90С. В квартире - на один градус меньше. Парадокс? Да нет. Не более, чем вся наша сегодняшняя, как впрочем, и вчерашняя жизнь. Сегодня мы платим за "свободу" тем, что власти не хотят пускать тепло в наши дома и в наши души. Вчера мы платили за несвободу тем, что в домах всегда было тепло и сытно, дети не бомжевали, как сегодня, прячась по подвалам, разрушенным домам и канализационным люкам. Но души наши, как и сегодня, были полны отвращения к властьимущим, к их подлым роскошествам, которые они, в отличие от сегодняшних, действующих нагло, цинично и напоказ, пытались прикрыть некой тайной "заднего крыльца", когда одним выдавались спецпайки и их холуи-водители доставляли в дом "хозяина" бесчисленные кульки, пакеты и свёртки с дефицитом, сильно потея и пыхтя и воровито оглядываясь на оказавшихся ненароком рядом простых прохожих. Когда к глухим воротам других подруливали тяжело гружёные колхозные грузовики и группа подневольных "коллективных собственников" часто во главе бригадиром, хранившем при себе свой красный партбилет, который не жёг его продажную душу, а мягко согревал жирное тело, группа красных подневольных "коллективных собственников" сгибаясь под тяжестью аккуратно зашитых мешков, вереницей тащилась во двор, где хозяйка уверенно распоряжалась куда и что расставлять. И не дай Бог, если простой смертный, случайно наблюдая это "обычное мероприятие", пробовал раскрыть свой рот, которому всегда положено было быть в таких случаях на крепком замке. Не приведи Господи!
Один мой хороший знакомый, к сожалению очень рано и по невыясненным обстоятельствам ушедший из этой жизни, рассказывал мне, как в районе, где он работал после окончания ВУЗа, произошёл вполне ординарный случай, когда при очередном завозе с колхозных полей провизии для секретаря местного райкома партии шофёр грузовика перепутал ворота. Шофера, возившие ответственный груз, были разные и часто ошибались воротами, пытаясь выгрузиться у соседа владыки района, но каждый раз сосед секретаря, терпеливо указывал им на настоящие, на хозяйские ворота. На этот раз на соседа что-то нашло и он, не моргнув глазом, приказал шофёру разгрузиться у себя во дворе. "А будь что будет! А пусть этот вор поднимает шум! Пусть покажет, что он, пользуясь данной ему властью, бесплатно кормится с колхозных полей!" Неопытен, хотя и норовист, был этот работяга. Ему долго и упорно вдалбливали на разных собраниях, что он - гегемон, что страна - его и что "всё вокруг моё". Ан нет! Всё вокруг было секретарево, а не гегемоново! Секретарь сначала попросил своего норовистого соседа отдать добычу подобру-поздорову, по-тихому, без шума. Но это только подзадорило гегемона. Он ничего не отдавал и при этом пытался заручиться поддержкой таких же гегемонов на своем предприятии. Да не тут-то было! Его друзья-гегемоны отводили глаза и советовали быстренько сдаться и их не впутывать, ибо у них у каждого - семья, которую надо как-то кормить. Опять же - очередь на квартиру можно потерять. Один даже сказал, что ему в райкоме обещали пыжиковую шапку в этом году. Тогда упрямец решил писать в местную газету: ему на собраниях говорили, что советская пресса - самая свободная и справедливая пресса в мире. Хотя и партийная. Но всё прервали прокурор и начальник местной милиции: по приказу секретаря райкома его забрали и дали двадцать четыре часа на то, "чтобы духу его в этом городке не было, иначе посадят на десять лет с конфискацией, а до этого он будет находиться в СИЗО". Гегемон уже на следующее утро бегал по Одессе в поисках хоть какой-нибудь работы, а жена с малыми детьми сидела на грязном вокзале под анекдоты про очередного Генерального секретаря... "Пол-страны сидит, а пол-страны готовится", - справедливо написал поэт Роберт Рождественский о нашем прошлом житье-бытье... А если к спецпайкам добавить ещё и спецвузы, в которых могли учиться только дети партийно-советской элиты...
Но и нынешнее наше житьё не лучше. Может потому, что у власти практически остались те же люди? Вывернулись, извернулись и вновь наверху? А мы где с вами при этом были? И где мы с вами сейчас? Сегодня эти сторонники диктатуры пролетариата - ярые поклонники демократии! Сторонники тоталитарной плановой экономики сегодня с пеной у рта защищают такую недавно ненавистную им частную собственность, которой у них вдруг оказалось, как принято выражаться, немеряно! Не напоминает ли нам это волков в овечьих шкурах?
Все бывшие коммунисты сегодня разбились на два крупных лагеря - якобы демократов и якобы новых коммунистов - и яростно, насмерть, бьются между собой за власть в государстве, не подпуская и на пушечный выстрел к ней простых смертных. Запах власти, которая сулит обладание огромными деньгами через коррупцию, запах близости к государственному бюджету, от которого можно откусить кусок пожирнее, сводит с ума этих людей, для которых никакая идеология не чужда: лишь бы только она вела к желаемому успеху.
В своё время они сошли с ума, потому что не знали, чего уже хотеть. И они совершили переворот. Сегодня их жирные затылки можно наблюдать в храмах, где они истово молятся наряду с теми, которых они только вчера изгоняли из ВУЗов за верность вере в Бога. Сегодня они обнимаются на улицах Иерусалима с теми, кого они не допускали к учёбе в ВУЗах, приказывали не брать на работу и вводили "коэффициент еврейства" в организацях, учреждениях и на предприятиях, вынудили почти всех покинуть эту страну, а теперь, откровенно перед ними лебезя, приглашают "посетить свою бывшую родину и оставить в её чреве как можно больше своих шекелей"...
Сегодня они братаются с бывшими фашистами, топтавшими их землю, лижут им пятки и зазывают скупать всё, что с таким трудом было создано предыдущими поколениями, обретая тех, кто ещё не сумел убежать от такой власти за границу, на присутствие этой заграницы у себя дома. Они всё распродают направо и налево. И, видимо, небескорыстно: вон как растут их особняки и вон как их отпрыски учатся и работают на престижных должностях за границей! Вот вам (то есть - нам), бабушка, и Юрьев день!
Назад не хочется, но и нынешнее состояние - хуже губернаторского! ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?"
Этот материал я показал редактору-владельцу одного маленького по формату и по содержанию журнальца, в котором владелец иногда публиковал мои вирши и всякие короткие шутливые заморочки. Человек он был на вид неплохой, на днях ему исполнилось семьдесят. Но он был бодр, подвижен, деятелен. Настораживало только то, что все четыре старушки, составляющие его редакцию и, по их словам, работающие с ним с незапамятных времён, были тихи, как мышки, не высовывались и до неприличия подобострастны. Это было вполне объяснимо: все они давно сидели на мизерных пенсиях, ни о какой работе в другом месте и речи не могло быть. Хотя приработок в журнальце составлял одни слёзы по сравнению с тем, сколько энергии они ему отдавали, всё же для старушек это был спасательный круг в сегодняшней их жизни: без такого приработка можно было быстро протянуть ноги.
Политические пристрастия редактора были явно на стороне прошлых властей. Он этого никогда не скрывал и часто публиковал на первых страницах журнальчика свои небольшие патриотические статейки: формат и тематика журнальца не позволял сильно распространяться на эту тему. Однако редактор был очень недоволен современным коммунистическим правлением в республике, постоянно ругал современных "лже-комунистов и дерьмократов" и больше хвалил соцпартию, чью газетку он издавал под старые коммунистические праздники и в чьем домишке совсем бесплатно размещал свою редакцию. При нынешних ценах на аренду помещения это позволяло журнальчику просто выживать. Налицо подтверждался вывод К. Маркса: "Бытиё определяет сознание".
Тут мне вспоминается один мой трёп в московской гостинице, какие обычно случаются между постояльцами, с каким-то важным чином из Морфлота, оказавшимся со мной в одном номере. Было это в середине 70-х годов. Тогда в беседе с ним, я привёл это изречение Маркса, на что чин меня тут же важно поправил: "Общественное бытиё определяет общественное сознание". "Ничего себе! - подумал тогда я, - как перевернул! Это уже совсем другой коленкор получается!"
Итак, я принёс в редакцию описанный выше материал для очередного номера, попросил верстальщика, сидевшего в одной комнатке с редактором, распечатать его с дискеты, на которую я предварительно записал статью дома. Редактор, с которым мы поздоровались за руку, тут же уткнулся в какую-то газету, а верстальщик принялся за распечатку. В комнатёнке постоянно горел тусклый свет: её единственное оконце выходило на стену соседнего дома, которая от самого оконца отстояла ровно на полметра. В верхней части оконца был вмонтирован старый-престарый кондиционер "Бакы", давным-давно неработающий, а всё пространство от облупившегося подоконника до кондиционера было заложено какими-то старыми пожелтевшими папками с такими же давно пожелтевшими листами бумаги внутри. Через минуту распечатка материала была выполнена, я вынул листки из принтера и положил их перед редактором, а сам присел за приставной к его заваленному чем попало столу столик. Взял со столика какую-то старую газету и молча принялся её просматривать, ожидая, когда редактор начнёт читать мой материал. Через некоторое время редактор оставил своё занятие и принялся за чтение моей статьи. Я же продолжал почитывать газету. Минуты через четыре я услышал неопределённый звук со стороны редактора и поднял на него глаза. Редактор выглядел сильно взмокшим, по его лбу и глубокой лысине, обведённой по бокам жёскими седыми прямыми волосами, пошли красные пятна.
-- Да-а-а! - Севшим от глубокого возмущения голосом произнёс редактор. - Да-а-а.. Совершенно необъективная и злобная статья! Абсолютно необъективная и злобная! - для большей убедительности добавил он. - Я сам вырос в семье секретаря райкома и никогда такого не видывал! Правда, бочонки с вином иногда приносили, но чтоб такое! Абсолютная ложь!
Я тоже от неожиданности остолбенел: он же, во-первых, ругал современных коммунистов, о чём и говорится в статье, а во-вторых "как вам нравится "во-первых?" тут же вспомнил я одесский анекдот. Ну и вляпался я, как обычно! Кто ж знал, что он из такой семейки! Редактор продолжал пускать какие-то пузыри по поводу "грубой и бездоказательной клеветы", а меня начала забирать какая-то внутренняя, скажу приямо, "классовая злость".
-- Хорошо, - сказал я редактору как можно спокойнее. - Давайте разберёмся, где тут ложь, а где - правда. Понятно, что вы публиковать материал не станете. Но просто для выяснения истины давайте поговорим. По поводу описанного поведения секретаря райкома вы возражаете? Так?
-- Такого быть не могло в природе! - закипятился редактор. - В при-ро-де! - повторил он для большей убедительности по слогам. - Вы это понимаете?
-- Нет, не понимаю, - ответил я. - Этому были свидетели.
-- Какие свидетели? Назовите фамилии и адреса!
-- Счас! - ответил я ему шутовски, - только пойду умоюсь! - Вы сами-то хоть раз назвали в своих публичных критиках хоть одну фамилию? Никогда? А от этого приводимые вами факты не переставали быть фактами?
-- Я на власть никогда бочки не катил! Никогда! Власть - она есть власть! Её трогать нельзя! Ни языком, ни руками!
-- Особенно наша прошлая, - поддакнул я ему. - А кто, простите, кого должен вызывать "на ковёр": прокурор секретаря райкома или наоборот?
От такой моей наглости редактор даже поперхнулся. Но придя в себя, в ответ промолчал.
- Ну вот видите, - не удержался я. - При всём нашем недовольстве сегодняшней властью, мы имеем возможность и такие вопросы ставить. А "во времена оны" подобные вопросы нельзя было и мысленно себе задавать: можно было враз оказаться в "местах отдалённых". Ведь так? И с помощью вашего непорочного родного секретаря райкома.
-- Ну может описываемый вами случай и имел место, - начал отходить редактор, - но зачем же так обобщать? Зачем всё хорошее дёгтем мазать?
-- А я и не мажу, - возразил я. - Хорошее никаким дёгтем не замазать. Но негодяев и систему, которая их порождает, надо выявлять и предавать всё это гласности. Вы ведь не хотите прямо отвечать на вопрос: в нормальном, по-людски устроенном государстве кто кого должен вызывать "на ковёр": прокурор секретаря райкома или наоборот? Вашего родственника, секретаря райкома, часто вызывал к себе прокурор?
Редактор снова проигнорировал мой вопрос и принялся рассказывать случай, когда ему пришлось, будучи главным редактором одного республиканского журнала, ехать по делам с секретарём райкома одного из южных районов республики, чтобы проконтролировать строительство крупного гидротехнического объекта. Разговор был заведён, чтобы показать, что как ни приглашали этого секретаря местные начальники в разные баньки попариться, он твёрдо проявлял своё партийное достоинство и ни на какие такие дела не шёл. "Правда, в несколько специальных домиков мы заезжали, где нам накрывали столы. Без этого нельзя", - подытожил в конце рассказа редактор.
-- Почему же так и нельзя? - спросил я, - вы разве расплачивались собственными деньгами за всё? Нет? Задаром? А как должен был отчитываться тот, который вам всё это устраивал? Списывал? Тогда чем этот случай отличается от описанного мною в статье?
-- Без этого нельзя, - твёрдо разъяснил мне редактор. - Надо знать психологию людей.
Я видел, что разговор идёт, как говорят, "в пользу бедных". То есть впустую. Этого человека, вкусившего от плода той власти, выросшего в семье всевластного партийного руководителя, ничем пронять нельзя. Но меня всё-таки подмывала скверность моего характера задать редактору ещё хотя бы один вопросец. И я сделал это.
-- А как вы смотрите на то, что крестьяне не имели права выбраться за пределы своей деревни без разрешения председателя колхоза?
-- Это всё ложь! - вскинулся редактор. - Они могли ехать куда угодно!
-- Ой ли? - не поверил я. - Без паспортов, которые им никогда не выдавали? До первого милиционера? Я вспоминаю времена, когда я служил в армии. Ребята, призванные из сельской местности, всегда ломали голову перед демобилизацией, куда бы на какую комсомольскую стройку сразу завербоваться, чтобы там получить заветный паспорт и иметь, наконец, возможность передвигаться не только по своей деревне, но и за её пределами. Разве не так?
-- Во-первых, я в армии не служил, - с каким-то превосходством медленно ответил мне редактор, и я почувствовал, что он смотрит на меня, как на плебея, нивесть откуда свалившемуся на его седую голову. - Во-вторых, - продолжил он, - я в ваши армейские времена уже работал в районной газете и знаю, что крестьяне могли ехать куда угодно! Но кто же их отпустит, когда идёт уборка? - резонно заключил он.
-- Вот-вот, - в тон ему проговорил я (скверный характер!), - уборка круглый год! По-моему, лет четыреста назад холоп всё же один день в году (на Юрьев день) получал волю и мог переходить от одного барина к другому. А у нашего крестьянина и такого права не было!
-- Это не правда! Хрущёв потом приказал выдавать паспорта!
-- Конечно. А если бы не Хрущёв? Кстати, этот же Хрущёв в 1962 году приказал расстрелять мирную демонстрацию в Новочеркасске. Не так ли? Руководители её тоже пошли под расстрел. А люди требовали только пересмотреть нормы выработки на заводе... Это как объяснить? Это тоже неправда? Не пора ли, наконец, некоторым хотя бы покаяться?
-- Никто каяться не собирается! - тут же отрезал, не задумываясь, редактор.
Он сидел потный, красный, надутый и злой. Чтобы как-то разрядить обстановку, я попросил верстальщика, сидевшего за компьютером и делавшего вид, что он ничего не слышит, распечатать мне для показа редактору другой материал, другую статью, которую я на всякий случай заготовил для редактора и содержание её было прямо противоположным. В ней я ругал современных демократов. Вот эта статья.
"О крокодиловых слезах
Жили-были две страны. Нет, не сверхдержавы. Скорее наоборот. Но что интересно, в обеих царствовала демократия, хотя располагались они друг от друга на большом-пребольшом расстоянии. То есть и они не избежали этой заразы. Потому что что есть демократия? Это когда в стране нет никакой власти и сильный пожирает слабого. Это когда у каждого есть своя небольшая армия из родственников, друзей, знакомых и платных наёмных соучастников со своими прокурорами, судьями, боевыми группами, тыловым обеспечением, разведкой и контразведкой, армией, которая решает все проблемы на захваченной ею территории, и ты всегда, если хочешь нормально жить, должен дружить с владельцем этой гашки1, т.е., простите, компании.
Демократия, это когда центральная якобы власть существует сама по себе и якобы управляет страной, выезжая за границу на всякие форумы-презентации, сидит под общим для страны флагом и по утрам ровно в шесть слушает свой странный (от слова "страна") гимн, радуясь, что он, де, вдохновляет всё население на разные-всякие полезные дела. Например, на уплату налогов, без которых центральная власть враз вымрет, потому что не станет денег оплачивать членские взносы одновременно в тридцати международных организациях, которые только поэтому и признают такую власть и помогают ей сидеть наверху над всеми местными, локальными владельцами захваченных (или - контролируемых, так будет более демократично звучать) территорий.
Демократия, это когда от каждой гашки (опять сбился! Вот привязалось ко мне это слово! Наверное, потому, что оно похоже на "гашетку"), т.е., простите, компании на основе якобы тайных выборов в общий парламент попадают свои люди и решают свои вопросы. Выборы должны быть обязательно тайными, потому что не положено засвечивать те мешки денег, которые привозятся, в основном, из-за границы для оплаты нужных результатов голосования. Иногда, правда, мешки выпадают из рук прямо на тротуары, но простому люду тут же компетентно объясняют, что их содержимое призвано обеспечить ремонт таких тротуаров, чтобы в будущем мешки с деньгами не выпадали из рук их владельцев в таких сомнительных местах в самое неподходящее время.
Много ещё чего интересного можно писать про демократию, да мы не на этом хотели остановиться. В каждой из вышеназванных стран в условиях полной и окончательной победы демократии реальной властью в некоторый момент стала обладать определённая гашка (станем употреблять именно этот термин, потому что "компания" - это нечто мягкое, дружественное и тёплое, в отличие от гашки). И что замечательно, во главе каждой из гашек стоял человек по фамилии Крокодилов. Заметьте: это происходило в разных странах. Наверно, всё это от демократии. И что совсем уже замечательно, в каждой из этих стран стали учинять погромы граждан, не входящих ни в какие местные гашки, а мирно до этого трудившихся на своих рабочих местах и ни кого не трогавших, и выгонять их за пределы контролируемых гашками территорий, т.е. за границу. Всё бы ничего, ведь, говорят, что за границей народ живёт намного лучше, чем в этих гашковых странах, да изгоняемым не давали с собой ничего брать из их имущества. "Чемодан - вокзал", если успеешь. А не то...
Оба Крокодилова, хотя и не были между собой знакомы, но действовали, точно родные братья. Почти, как близнецы. Но кто-то, видать, надоумил изгоняемых и они, как и "братья" Крокодиловы, повели себя совершенно одинаково: они собрались на определённых территориях и организовали у себя свои собственные, родные гашки, которые не стали пускать на контролируемую теперь уже ими самими территорию никого из гашек Крокодиловых! А чем они хуже! Крокодиловы и так с ними, и сяк, с пушками да танками, со всякой международной общественностью, которая сидит в тех тридцати организациях, которым Крокодиловы платят членские взносы. Да не тут-то было! Не могут вернуть под свой контроль утраченные территории. Не могут и всё! Демократия!
Хотя до этих событий и значительно позже них "братья" Крокодиловы не были между собой знакомы, но какой-то очередной международный форум свёл их вместе. Они познакомились и с удивлением констатировали не только друг перед другом, но и перед всей международной прессой, что у них-то, оказывается совершенно сходные проблемы: как вернуть утраченные территории и освободиться от вновь появившихся "новых незаконных гашек" (цитата). Они оба так расчувствовались такой общностью своей государственной и личной доли, что стали плакаться своими крокодиловыми слезами, чтобы вызвать к себе международную жалость. Но международная жалость признаёт только хорошие членские взносы и никак не реагирует на любые крокодиловы слёзы. Так до сих пор непрерывно каждые сутки и проливаются крокодиловы слёзы в двух "братских" странах..."
Редактор, всё ещё злой, потный и красный, внимательно вчитывался в каждую строку и по мере продвижения по строкам, лицо его принимало всё больше и больше довольное выражение.
-- Ну вот, - улыбаясь, сказал он, заканчивая чтение. - Это другое дело. Шутку я понял. Я даже понял, о ком идёт речь.
-- И что же? - я вопросительно смотрел на него.
-- Это статья - для газеты, но не для моего журнала. - Слишком велика, - уклончиво заключил он. - Мне надо больше писать о капусте...
-- Без капусты нам никак нельзя, - согласился я и стал собираться восвояси. Редактор снова молча уткнулся в оставленную было газету...
Но Судьба - штука довольно интересная, и она ещё не однажды плотно сводила меня с редактором. Дело в том, что описываемый выше свой журнальчик редактор печатал в Тирасполе: там выходило намного дешевле. Иногда он посылал отвозить материал, подготовленный к печати, кого-то из своих стареньких сотрудниц, но чаще всего, в виду очевидной немощи старушек, этим делом занимался помошник редактора по хозяйству: крепкий пятидесятипятилетний мужчина, которого редактор всегда окрикивал как Сашу. Ругал он его постоянно и прилюдно и за что попало: то тот не вовремя отнёс куда-то какую-то бумагу, то не в срок привёз какой-то материал, за который уже давно оплачено, то много прибавил газу в газовой колонке, а на дворе уже потеплело и это надо замечать и экономить хозяйские деньги, то не вовремя помыл бутылки и не подготовил их к заполнению каким-то раствором, которым журнальчик между делом приторговывал, то плохо закрыл хозяйский гараж и новенькую, совсем недано купленную вишнёвую "Ниву" могли похитить воры, которых нынче развелось пруд пруди, то запоздал с приездом на "Ниве" к хозяйскому дому, а уже полдень и давно пора быть на даче, то... В общем причин всегда находилась тьма и им не было видно конца. Саша всегда молча выслушивал хозяйские попрёки, вяло пытаясь как-то оправдаться, но больше искренне уверял, что сегодня он обязательно всё-всё сделает, отключит-подключит, убавит-прибавит, найдёт-привезёт. И быстро удалялся с хозяйских глаз "исполнять".
И вот в один из своих приходов в редакцию я стал свидетелем очередной такой взбучки по поводу неподготовленности к поездке в Тирасполь. На сей раз редактор самолично решил отвезти отпечатанный на кальке материал в типографию и заодно решить на месте кое-какие дела с руководством типографии. Назавтра уже надо ехать, а машина не помыта и не заправлена бензином! Саша пытался оправдываться, что всё давно подготовлено, что он ездил на заправку аж к Аэропорту, потому что там бензин дешевле, но тут же получил от шефа нагоняй, что нечего тратить зря хозяйский деньги и мотаться из центра города к Аэропорту, потому что по его редакторским сведениям чуть ли не в самом центре, у вокзала, есть заправка, где бензин ещё дешевле! "Вы же меня прошлый раз ругали, что я заправлялся на той запрвке и что там очень дорого и посылали на заправку к Аэропорту! " - оправдывался Саша. "А надо головой думать! - раздражённо крикнул в ответ шеф. - В мире всё меняется! Я вчера узнавал, и на этой заправке бензин подешевел!" "Да он подорожал на всех заправках! " - не унимался Саша. Но шеф был неумолим: хозяйские деньги просто выбрасываются на ветер! Тут я встрял в нескончаемую выволочку, чтобы как-то перевести разговор: жаль было этого спокойного и исполняющего все мыслимые и немыслимые указания шефа мужика.
-- А возьмите-ка меня с собой в Тирасполь! - попросил я редактора. - Мне нравится этот город. В прежние времена мы с женой частенько езживали туда просто посмотреть на город и на народ. Возьмёте?
Редактор недовольно перестал ругать Сашу и из вежливости повернулся ко мне.
-- Не знаю, - замялся он. - У нас там будет много дел...
-- Ничего, - настаивал я, - я вам не помешаю. Пока вы будете делать свои дела, я схожу в редакцию одной газеты. Мне обещали опубликовать в ней кое-какие мои вещи. А?
Редактор мялся и видно было, что он никак не находил предлога для отказа.
-- Ладно, - наконец сдался он, - приходите завтра к моему дому к восьми ноль-ноль. Оттуда и отправимся.
-- Хорошо, - согласился я, - заранее вам благодарен.
На следующий день ровно в восемь утра я был у порога дома, в котором проживал редактор. Дом, а скорее - домишко, хотя и находился в престижном районе города, но был небольшим четырёхэтажным строением, серым, грязным и обшарпанным, ровно таким же, как и примыкающий к нему двор. Посреди двора красовалась огромная, вся почерневшая от времени деревянная беседка с давно провалившейся крышей. Внутри беседки были свалены какие-то бумажные мешки, из которых торчал строительный мусор. В разных местах двора был разбросан какой-то хлам и сам двор больше напоминал то ли городскую помойку, то ли загородную свалку. Вот в этом-то домике у редактора и была небольшая квартирка, в которой он холостяковал вдвоём со взрослым сыном. Жена от редактора давно ушла и жила с дочерью в другом городе. Пришлось мне томиться часа полтора в грязном дворе, в котором и присесть-то было можно только на корточки. Да и то с риском, что на тебя неожиданно наедет какой-нибудь подслеповатый ветеран на своём подаренном ему бывшим государством полуразбитом драндулете. Редактор за это время вышел во двор только единожды, хмуро поздоровался, поглядел на весёлое солнышко, заливавшее ярким светом грязный двор и ещё больше нахмурился.
-- Этот человек так скоро не проснётся, - выдавил он из себя, имея в виду своего завхоза. - Хоть бы к обеду приехать на место...
-- Ничего, - весело ответил я, - посмотрите, какая погодка! Лето! Благодать божья! Доедем! Чего тут ехать-то!
-- Бензина съедим ого-го! - пробурчал редактор и отбыл в свою квартиру.
Я остался во дворе ждать завхоза, который должен был сначала проснуться, потом из своего дома направиться в гараж своего шефа, расположенный в другом конце города от места, где он жил, забрать там хозяйскую вишнёвую "Ниву" и прикатить в ней пред светлы очи своего шефа. Случилось это, как я сказал, ровно через полтора часа после моего прибытия к крыльцу дома редактора. Завхоз, как ни в чём не бывало, лихо подкатил прямо к крыльцу, вылез из машигы и подал, улыбаясь, мне руку. Поздоровались.
-- Чего так долго? - полюбопытствовал я.
-- Точно вовремя. Тютелька в тютельку. Как приказал шеф.
-- А мне он сказал, чтобы я пришёл ровно к восьми! Мол, надо ехать с утра пораньше!
-- Это он вам сказал на всякий случай, - расхохотался Саша. - Вдруг передумает со мной. Вдруг переиграет.
-- Да, но он же мог мне позвонить, что перерешил. Чего ж мне торчать здесь полтора часа!
-- Ещё чего захотели! Да у него каждую минуту семь пятниц на неделе! И все всегда виноваты! Перезвонить...
Ровно через минуту на крыльце появился, как ни в чём не бывало, готовый к дороге редактор с большим кожаным портфелем в руке. Словно он наблюдал за всем происходящим из-за полуоторванноой и висящей на одной ржавой петле двери, ведущей в тёмный подъезд.
-- Что ты так поздно приехал? - тут же принялся распекать он Сашу. - Небось, катался по городу! Жаль, не записал вчера показания спидометра...
- Да пробки на дорогах, - не вдаваясь в детали своего взаимоотношения с шефом, вяло отбился завхоз. - Вы же сами знаете...
...Приехали мы в Тирасполь почти к полудню: в пути Саша вёл машину точно по правилам дорожного движения, временами даже очень медленно. Никак не рисковал, не делал никаких обгонов, ехал ровно и больше жался к правой стороне дороги. Шеф машину водить не умел: стар уже учиться, а в былые советские времена имел своего личного шофёра, поэтому вся эта затея с вождением ему была ни к чему. Правда, был определённый период, когда власти, пытаясь показать себя в глазах Запада демократами, заставляли руководителей обучаться вождению и самим управлять персональными автомобилями, что одновременно давало возможность сокращать водителей, но нашего редактора горькая чаша сия миновала и он не успел дойти до такого унизительного состояния, чтобы самому садиться за вонючую баранку. Ну а сегодня он сам хозяин и имеет полное право самому за баранку не браться.
Уже минут через двадцать я понял причину столь правильного поведения завхоза на дороге. Шеф, как коршун, следил за его поведением и при малейшей прибавке скорости, начинал нравоучения, что машину де надо беречь, не дёргаться, бензин не пережигать, и не дай Бог, попадём в аварию, а машину только что купили. Ей ещё не положено по техническим условиям набирать большую скорость. А вдруг по дороге попадём на гаишника и придётся платить, а деньги-то не казённые... Так он гундосил всю дорогу до самого Тирасполя. Но это были ещё цветочки. А ягодки начались в самом Тирасполе.
Как я понял из разговора в машине, им надо было побывать в Тирасполе в нескольких местах. И как только мы заехали в город, редактор приказал завхозу ехать в какое-то заведение. Я города не знал и поэтому никак не реагировал на то, каким путём мы поедем. Саша молча повернул в ближайший переулок, но шеф его тут же одёрнул:
-- Куда ты повернул? Надо было прямо ехать, а потом - направо! А так намного дальше получится! Бензина нажжём!
-- Там поворот направо запрещён, - спокойно отреагировал завхоз.
-- Я там не видел никакого знака! - закричал шеф. Никакого знака! Поворачивай назад!
-- Там висит знак, - продолжая ехать вперёд, спокойно отвечал завхоз, - вы знак могли не заметить. Вы же не водитель.
-- Поворачивай назад, я тебе сказал! - переходя на крик, - зашумел шеф. - Делай, что тебе говорят!
-- Ладно, - безропотно согласился завхоз, - поворачиваю.
Он остановил машину и принялся разворачиваться. Переулок был узким и осуществить эту операцию с одного раза оказалось невозможно. Начался разворот по частям. Машину дёргало туда-сюда, взад-вперёд. Загудели недовольные водители, которые вынуждены были остановить движение своих авто из-за процедуры, затеянной шефом. В ответ на гудение шеф сильно занервничал и принялся громко кричать на завхоза, что тот даже машиной не умеет управлять.
- Как ты управлял коллективом, если с такой мелочью не можешь справиться? - кричал шеф.
Саша явно нервничал и с разворотом у него стало получаться ещё хуже. Машин в переулке набиралось всё больше и количество звуковых сигналов увеличилось... "С каким таким коллективом? " - удивлённо подумал я, с жалостью глядя на завхоза, который никак не мог развернуться на небольшом пространстве переулка, зажатый с обеих сторон гудящими автомобилями.
Наконец разворот получился и мы поехали по пути, указанному шефом. Когда подъехали к перекрёстку, на котором должны были повернуть направо, завхоз остановил машину и молча показал шефу на прикреплённый к бетонной опоре знак "Поворот направо запрещён". Увидя знак, шеф рассвирепел ещё больше:
- Что ты мне тычешь! Что ты мне тычешь! Я и сам вижу! Не слепой! Что же ты молчал! Что же ты полчаса разворачивался! Не было тут знака раньше! Я бы его увидел! Что ты мне тычешь сейчас! Надо было меня переубедить! А то жжёшь молча бензин и только! Все вы мастера пускать чужие деньги на ветер! Поехали прямо! А то опять станешь разворачиваться полчаса! Заедем в организацию...
Он сказал, в какую организацию надо заехать и мы поехали прямо. Но ситуация повторилась ровно на первом попавшемся перекрёстке: шеф снова дал команду ехать покороче, принялся ругать завхоза, что он специально выбирает дорогу подлинней, чтобы побольше сжечь бензина... Когда мы, наконец, добрались до первого места, в которое должен был зайти редактор, я весь кипел от ненависти к этому маленькому сквалыге и сильно жалел, что сам напросился ехать в эти Богом благославенные места. Меня уже ничто не радовало...
Мы остановили машину в тени большой акации на каком-то асфальтовом пятачке у задней глухой стены полуразрушенного дома. Неужели и сюда долетали снаряды? - удивился я, вспомнив о недавней войне, прокатившейся по Приднестровью, войне, которую официальные власти до сих пор стыдливо называют "конфликтом на ненациональной почве". Потный редактор, кряхтя, выбрался из машины и молча направился с портфелем в руке в трёхэтажное здание напротив. Мы с завхозом тоже выбрались на свежий воздух и подошли к акации, оставив дверцы машины открытыми. Жара стояла непосильная и только чьи-то куры стайкой молча бродили по полуразбитому дому и что-то себе клевали и клевали.
-- Что он так взъелся на вас? - не выдержав, спросил я у завхоза. - Ка вы всё это терпите?
-- А куда деваться? - вопросом на вопрос ответил он. - Куда сегодня денешься? Да ещё в моём возрасте. Слава Богу, что хоть это место есть и не даёт помереть с голоду мне и моей семье.
-- А у вас что нет никакой специальности? Кто вы по профессии?
-- Я? - он грустно улыбнулся. - Я такой же математик, как и вы.
-- Я? А откуда вы про меня знаете? - удивился я. - Откуда? Хотя, правда, город наш не очень велик...
-- Да вы приходили в наш Центр к нашему директору. Я вас там и видел. Ведь вы работали директором Центра... - он назвал предприятие, на котором я в своё время действительно работал. - А я у нас в Центре был освобождённым председателем профкома.
-- О-о-о! - снова удивился я. - Да вы были на уровне директора и даже выше! Как же с вами случилось всё это? - я показал на стоящую в тени "Ниву", как бы олицетворявшую собой его шефа.
-- Как и со всеми. Центр расформировали, я с остальными людьми оказался на улице. Работы - никакой. Да и возраст уже. Чуть с голода не померли с женой. Хорошо, что бышие товарищи по профсоюзу и по партии помогли устроиться в этот приватизированный журнальчик. Шеф-то - быший партийный деятель. Вот выполняю любую работу. Что прикажут. Вот, например, приедем сегодня домой и повезу его на дачу.
-- На ночь глядя?
-- Это обычное дело.
-- А дача-то далеко?
-- Да километров тридцать будет от города, да ещё три километра по сельской дороге в сторону от трассы.
-- Ну это не очень-то далеко. Часа через полтора вернётесь. "Нива" быстро бегает.
-- А причём тут "Нива" - удивился завхоз, - я назад - на своих двоих.
-- То есть кк-как это, - запнулся я.
-- Так он не даёт ехать назад на машине. Бензин экономит. Хорошо, если с дачи кто-нибудь в этот момент едет домой: подвезут до трассы. А там, если повезёт, на попутной уже добираюсь. За свой счёт, конечно. А вот прошлый раз так я в полночь добирался по просёлку впотьмах до трассы почти наощупь все три километра. И с попуткой повезло. Ждал всего часа полтора. Хорошо, хоть у нас тут волков нет...
-- Как же нет, - тихо сказал я, - у нас-то как раз и обитают настоящие волки...
________
1 гашка - шайка (рум.)
20.11.2004 - 06.01.2005 г.г.
"Шутки юмора"
Приключения бабушки Федосьи
Служил с нами в армии сверхсрочник старшина Борисов. Худощавый, небольшого роста, всегда подтянутый и аккуратно выглядевший, он был очень строг. Как и подобает старшине. Не признавал никаких шуток, считая их поводом к панибратству. На нас, салаг, смотрел с определённого расстояния и иногда, исключительно в воспитательных целях, снисходил до примеров из личной фронтовой жизни. Время было уже, как нам тогда казалось, почти свободное, хрущёвское, и мы явились в армию с коками под Элвиса Пресли. Причём с коками не только на голове, но и в голове: при малейшей возможности отращивали себе волосы подлиннее и особенно старались, чтобы подлиннее были волосы сзади, на шее. Чтобы шея и затылок не были голыми, выскобленными под ноль ротным парикмахером. Всё это очень не нравилось старшине Борисову и он, как мог, вовсю боролся с новыми веяниями с помощью обыкновенной школьной линейки, т.е. как всякий хороший солдат, он использовал подручные средства.
На каждой вечерней поверке он четко вышагивал перед строем в своих тёмносиних диагоналевых галифе, без единой маломальски видимой складочки на них, в зелёном офицерском кителе с ярко начищенными золотыми пуговицами, будто только что пошитом у лучшего портного и пять минут назад надетом на своего обладателя. Его до блеска начишенные хромовые сапоги с высокими голенищами издавали такой скрип, что все салаги старались не глядеть на свою часто просящую каши кирзу и от зависти сглатывали слюну. Тщательно выбритая борода старшины отливала тёмной синевой на строгом неподвижном смугловатом лице. Старшина медленно-медленно шагал перед строем и тщательно вглядывался в причёску каждого, стоящего в строю. Боксы и полубоксы он пропускал, не удостаивая их владельцев своего строгого взгляда. А вот если вдруг какая-то причёска на них не походила, старшину к ней тут же притягивало, как магнитом. Он тут же давал команду: "Рядовой такой-то выйти из строя!". Когда в ответ на эту команду из строя, чётко чеканя шаг, напряжённо выходил подозреваемый и после крутого уставного поворота "Кругом" оказывался лицом к строю, старшина приступал к делу: он медленно и торжественно глядя на строй, вытаскивал из внутреннего кармана своего безукоризненно сидящего на нём кителя белую школьную линейку, медленно подходил к стоящему перед строем и начинал линейкой вымеривать у него длину его волос по всей поверхности головы. И не дай Бог, чтобы в каком-нибудь месте этой глупой поверхности длина хотя бы одного единственного волоска была бы больше старшинской нормы в один сантиметр! Не дай Бог! Виновнику-свободолюбцу немедленно объявлялся внеочередной наряд на кухню, который должен быть отработан в увольнительное для всех время: в субботу или в воскресенье - время, когда менее свободолюбивые военнослужащие могли претендовать на самостоятельный выход в город до 22 00.
У нас в части подобрался в своём большинстве народ городской, зубастый, что сильно раздражало старшину Борисова: очень мы все любили качать свои права. Особенно старшину доставали ленинградцы - большие мастера задавать всякие-разные не нужные вопросы, рассказывать неуставные весёлые истории, ссылаясь при этом на участие в солдатской самодеятельности и подготовку в этой связи к какому-либо концерту. В такие минуты старшина сразу становился суровым и машинально лез в нагрудный карман за школьной белой линейкой...
В душе старшина Борисов считал самодеятельность баловством и поводом для отлынивания от самоподготовки, и при любом удобном случае старался посетить репетиции самодеятельности, куда, честно говоря, в свободные минуты сбегали не только её участники. В нашей самодеятельности участвовал один парень из Ленинграда по фамилии Рожко. Известен он был не только как рядовой, пытавшийся часто в обход устава постоянно отрастить себе заграничную причёску, но и как рассказчик одной весёлой истории, от которой все, кто её слышал, буквально покатывались со смеху. Эта история на любых концертах, сколько бы он её не рассказывал, всегда проходила "на ура". Старшина Борисов был наслышан об успехах рядового Рожко в самодеятельности, но сам никогда весёлого рассказа в исполнении Рожко не слышал. Да и не очень-то и хотел услышать: отношения с рядовым Рожко у него складывались натянутые, отчего последний постоянно ходил под угрозой загудеть в выходные на кухню. А всего-то и дел: ну постригись ты покороче да не задавай старшине разных городских подковыристых вопросов! Повыучились там по городам, пока остальные сидели под бомбами в окопах, а потом ещё по пять-семь лет дослуживали срочную!
Но однажды всё-таки произошло то, что и должно было произойти: старшина Борисов пришёл на репетицию самодеятельности, где рядовой Рожко должен был рассказывать свою смешную историю. Пришёл не из-за Рожко, а потому, что ему, старшине Борисову, надоело, что все сержанты роты, вместо того, чтобы заниматься воспитательной работой с личным составом роты во время самоподготовки, не спросясь его, самовольно ушли в актовый зал на репетицию этой злосчастной художественной самодеятельности. Это был очень большой непорядок, несмотря на то, что командир части разрешал такие мероприятия в часы самоподготовки. Но командир, он далеко, а старшина - вот он, совсем рядом и каждую минуту должен солдата воспитывать для повышения его боеспособности.
В общем, старшина Борисов оказался в актовом зале, где уже развёртывалось действо: рядовой Рожко играл старушку-рассказчицу, попавшую в смешную историю, а милиционера, по сюжету её допрашивающего, играл другой недруг старшины: ленинградец рядовой Доватор, внук знаменитого генерала-кавалериста Доватора, Героя Советсткого Союза, прославившегося в начале Великой Отечественной войны своими конными рейдами по тылам противника зимой 1941 года. Правда, длину волос на голове у Доватора-внука старшина Борисов линейкой никогда не измерял, не осмеливался. Да к тому же Доватор-внук солдатом был очень скромным и никогда не пытался завести себе неуставную причёску Но всё же старшина его очень недолюбливал, хотя неизвестно почему.
Спектакль в зале смотрели не только сбежавшие от старшины сержанты, поэтому улов у старшины Борисова обещал быть неплохим. Старшина тихо вошёл в зал через боковую дверь и осторожно примостился где-то в последнем ряду, чтобы не привлекать к себе внимания. Затем начал рассматривать в полутьме присутствующих. На сцене за столом сидели рядовые Рожко и Доватор. На голове у Рожко был сбитый набок длинный женский платок. Декорации показывали "приёмный покой" отделения милиции. Давая объяснения милиционеру-Доватору, Рожко страшно шепелявил, подражая беззубой старушке, а Доватор своим поведением изображал почти-что старшину Борисова. Вот что увидел и услышал старшина Борисов.
...Дежурный линейного отделения станции Верхние Пацюки сержант Суворый находился при исполнении и строго смотрел на сидящую перед ним только что доставленную постовым гражданку старческой наружности. Составлялся протокол на предмет задержания.
- Давайте-ка правду, мамаша. Расскажите всё по порядку: как именуетесь, откуда и с какой целью к нам прибыли и что делали на станции у вагонов.
Суворый приготовился записывать. Старушка тяжело дышала и жалобно глядела на сержанта.
- Мне бы водицы, сынок. Заморилась я, бегамши-то.
- Вы, мамаша, я извиняюсь, так дышите, что будто бегом (он сделал ударение на первом слоге) только что к нам припожаловали из другой области, - сострил Суворый, подавая бабушке алюминевую кружку с только что налитой из стоявшего на столе графина с водой. Затем графин с водой был аккуратно воодружён на своё законное место - на подоконник зарешёченного маленького окна кутузки.
- Из другой, милый, из ей, - тут же согласилась бабушка, едва отпив из кружки несколько глотков воды. - А может и ишшо из дальней. А у вас станция как зовётся?
- Но, но! Разговоры! - сразу посуровел дежурный. - Фамилия?
- Чаюковы мы, - быстро ответила старушка. - Федосья Лукьяновна.
Сержант медленно записал.
- Откуда прибыли? Только без этих там, понятно? - при этом он сделал свободной рукой какой-то неопределённый жест в пространстве. - Понятно? - грозно повторил для большей убедительности сержант, глядя прямо в глаза ёрзавшей на жёстком казённом стуле старушки.
- Понятно, понятно, без каких без энтих. Только без их никак невозможно, без энтих-то, сынок! - на глазах старушки навернулись слёзы.
- Гражданка Чаюкова! - быстро глянув в протокол и немного запинаясь на фамилии, прервал бабушку сержант. - Попрошу! Итак, откуда прибыли? - грозно повторил он свой вопрос.
- А ты не больно-то шуми! Молод ишшо покрикавать! Господи-и-и! - неожиданно разрыдалась старушка, - и за что Ты допускаешь такия издевательства над старым человеком! Да чтоб он, хворый, по областям мотался! Да чтоб он...
- Гражданка, гражданка! Попрошу конкретно! Не давите на слезу! Откуда прибыли?
- Что ты заладил, как довоенный патефон: "Прибыли, прибыли!" Из Лиходеев прибегла я (бабушка тоже сделала ударение на первом слоге, косвенно подтверждая сержанту, что она не шпионка, засланная из-за кордона), прибегла за паровозом завязанная! По причине заболеваемости зуба и зловредствия соседа моего Митьки!
- Как это прибегла? - в тон бабушке икнул сержант. - Как это прибегла? - продолжил он удивлённо. - Это же сколько десятков километров будет, мамаша? Вы что? Я же просил вас слёзно: "без этих"!
- Так я ж и рассказываю и чистосердечно признаюсь "без энтих самых" (сержант заметил, что бабушка сильно шепелявила и никак не выговаривала звук "ч", каждый раз заменяя его звуком "щ"). Вот слухай.
Иду это я сегодня, значить, утречком на базар. Внучику свому, Васе, яблочков, значить, купить. А зуб, лихоманка его подери, вдруг ка-а-ак заболить! Ка-а-ак заболить! Да так разболелся, что хуть плачь, а хучь сигай куды попадя! Иду и не ведаю, дойду ли жива до базара. Так разболелся, подлый! Иду, за щеку держусь, а слёзы из глаз так и капають, так и капають! А мне, в аккурат, чтобы на базар попасть, надо ишшо нашу станцию пройтить. Ну... ту... где эти...ну... поезда бегають.
- Да что же вас туда понесло, мамаша? Насколько я помню, базар-то у вас совсем в другой стороне! - Суворый подозрительно смотрел на старушку, отложив в сторону авторучку, которой писал протокол.
- Так я и говорю: зуб у меня страсть как болел, проклятый! Иду, а слёзы из глаз так и капають, так и капають! Господи! - заголосила опять старушка, - и за что муки такие! И что я такого греховного сотворила, Господи! И зачем...
- Стоп, мамаша! Стоп! Ближе к делу! Вас уже в другой раз не туда заносит! - сержант предупредительно поднял руку: - Прямее докладывайте!
- Дак я к свахе своей, Макарьевне, сперва хотела забежать. Дело у меня к ей было. Безотлагательное. Хотела по пути узнать: когда огурцы в банке засаливаешь, надо ли...
- Гражданка! -начал выходить из себя сержант, - гражданка! Отвечайте по существу вопроса! Значит, вы проходили через станцию. Так?
- Ох, сынок! Не дай Бог никому такого лиха! Не приведи Господь! Да... Иду, значить, я прямиком через станцию, а зуб... Да чтоб ты, думаю, подлый, из меня вылез, а у соседки моей, Кондратьевны, случился, прости Господи! Да у козы у её, у Варьки, вырос заместо тех зубов, которыми она весь мой огород попортила, стерьва!
- Мамаша! - прикрикнул Суворый, - мамаша!
- Да... - не обращая на сержанта ровно никакого внимания, продолжала задержанная. - Да... Вдруг слышу, что кто-то к-а-ак заорёть: "Что же это ты, Лукьяновна, поездам тут помехи устраиваешь? Что же это ты, бабка, удумала по путям ходить?" И ну поливать меня! Мать-перемать! Мать-перемать! Оборачиваюсь, а это Митька, Кондратьевны сынок! "Ох и порода у их, - думаю. - Ох и порода! Ни дома те спокою от их нету, ни на путях!" И чтобы как-то отвязаться от энтого оболтуса, вежливо кричу в ответ, мол, зуб у меня болить, мочи нету, а ты тут со своими поездами! А потом всё-таки не сдюжла (обидно было!) и выпалила: "Да вся родня ваша - гадкая! Даже коза Варька - и та стерьва подворотная! Нет, - говорю, - чтобы человеку в беде подсобить, так вы - огороды вышшипывать и хозяев задавливать!" Думала обидится, а он, щербатый, вдруг заулыбался: "Ну ты чего, энто, Лукьяновна! Подсобим, конечно, если беда имеется. По-соседски подсобим"... Слазить он тут со свого паровоза и протягиваеть мне проволоку..
- Погодите, мамаша, - перебил её сержант, - эту что ли? - Он указал на отобранный при задержании у старушки моток синего телефонного кабеля.
- Энту, энту! - залилась слезами старушка, - чтоб ему на ей на том свете висеть, проклятому! - сержант молчал. Немного придя в себя бабушка продолжила:
-- Да... Протягиваеть, значить, он мне энту проволоку и нежно
нежно так говорить: "Ты, Федосья Лукьяновна, обмотай, значить, мучителя твого энтой проволочкой, - и протягиваеть мне один конец мотка, - а другой конец привяжи к энтому... Ну, как его... по-ихнему... Ну... Да...да... к бухерю заднего вагона! Вот! Да, к бухерю, значить. Я, - говорить, - как только поезд трону, вагон энтот дёрнеть и зубу твому - конец!" Ну я так всё и выполнила: завязала всё как есть, стою и жду. Уж больно зуб мучил, проклятый!
- Эх, мамаша! Неграмотная вы! - сострадательно вздохнул Суворый.
-- То-то и неграмотная! Да кабы грамотная-то была, я бы Митьку
заместо себя привязала!
Слёзы вновь появились на её непросыхающем страдальческом лице.
- Да... - продолжала бабушка. - Митька тут залезаеть в свой дюзель да ка-а-ак дёрнеть! Вагон, за который я была завязанная, и меня вместе с им ка-а-а-к мотануло! Чуть бСшку мне совсем не оторвало! Что-то там даже сильно хрустнуло! Хорошо, что у меня шея была платком обвязанная, а не то бы бСшку точно оторвало вконец! А зубу - ничего! На месте мучитель энтот! Ему, проклятому, хоть бы хны!
-- Поезд потихоньку пошёл и меня за ним потянуло. А куда
денесси! Упираюсь, а иду. Думаю, Митька сейчас остановить. Думаю, это у поезда инерция такая, закон всемерного тяготения у его. Сейчас, думаю, остановить, отдохну маленько и пойду за яблочками на базар. Ан нет! Гляжу, начинаю постепенно на бег переходить! Вот проклятый антихрист! Придётся, думаю, побегать завязанной, пока зуб не оторвётся. А куда денесси? Видать крепко энтот зуб во мне сидить. Терплю... Так шашнадцать вёрст и отмахала! - неожиданно зарыдала старушка.
Сержант молчал, ничего не записывал и с состраданием глядел на бабушку.
- Устала бегамши-то, завязанная! Мочи нет! Пора бы уж поезду остановиться, а он всё прёть и прёть! Гляжу, а впереди уже какой-то город показался. А Митька жарить!
...Проскочили город и ещё три станции. Начала пробегать и ваши путя. Чувствую - всё. Дальше нельзя. Далековато меня занесло. Дай-ка, думаю, остановлюсь. Будь что будет. Помоги Господи и спаси! Кое-как набегу перекрестилась и... остановилась! И что ты думаешь? Так четыре вагона и отдёрнуло!
... Присутствующие в зале, как обычно, смеялись, но на лице старшины Борисова не дрогнул ни один мускул. Зажгли свет. Старшина молча поднялся со своего места и зычным, годами отработанным командирским голосом, приказал:
- Рядовые Доватор и Рожко! На выход!
И медленно полез во внутренний карман своего безукоризненного командирского кителя за белой школьной линейкой...
1974 г. Кишинёв
Совет в Фильках
Фефёлкин? Ты? Что? Ты, говоришь? Ну вот! Зайди! А? Да, да! Зайди, говорю! А-а! Ты уже здесь? А с кем я?.. Не зна... Ну ладно, ладно, садись. Фефёлкин, са-дись. Что? Не хочешь? За что "спасибо"? Да садись, тебе говорят! Культурный! Садись, садись, марькизь! Хх-ха! Кстати, знаешь, кто был этот марькизь? Что опять "спасибо"? Я же тебе ничего не даю! Культурный! Так вот. Этот марькизь был первым помощником Наполеона и Бонапарта. По письменной части, Фефёлкин. Остальное они сами там делали, а вот по письменной части... Никак. Понимаешь? Ты, кстати, Фефёлкин, как по письменной части? Что опять "спасибо"? Не Бонапарт, говоришь? Вот это уже хужее. Хужее говорю. Понял? А может ты хоть Наполеон? И не он... Да... Слушай, а что тебе у нас не нравится? Что ты всё пишешь, пишешь куда-то... Тринадцатую регулярно получаешь? Регулярно? А-а-а... Незаслуженно? А кто её заслуживает? То-то и оно! А с марькизем, который был по письменной части, знаешь, что сделали? Не знаешь? То-то и оно! В Москве оставили! Как только пожар начался, так они его там и... Понимаешь, Фефёлкин? Понимаешь? Вот... А сами того... К себе в свой город Париж кинулись. Правда, Бонапарт, тот в Березине утоп, а Наполеон, он добрался до самого Парижу. Да... А потом, как наш снабженец Федька, спутался с какой-то Еленой. Правда, говорят, что та была святая. Не как федькина стерва! Но всё равно его загубила. Да... Начисто загубила. Так что, Фефёлкин, советую: не марькизь больше. У нас, в Фильках, хотя Березины близко нету да и Ленку Федька заарканил последнюю, но пожары ещё случаются. И почище московских...
1977 г. Кишинёв
Аргумент
Небольшой городской дворик, прилепившийся на косогоре, круто спускавшемся к расположенному у его основания большому старому парку с разрезающим его почти пополам неглубоким ручьём и заросшим густым зелёным камышом продолговатым прудом. Некогда глухая окраина Кишинёва, а теперь довольно престижное место чуть ли не в центре города.
Во дворике находится небольшой полутораэтажный особнячок, в котором когда-то маялся его хозяин, моментально сбежавший за день до прихода сюда в 1940 г. русских в Румынию.
С одного бока, со стороны некогда шикарной каменной лестницы, спускавшейся прямо от улицы в парк, располагались бывшие хозяйские конюшни, также густо заселённые, как и сам особнячок, советскими людьми-квартиросъёмщиками.
Снизу, со стороны парка, дворик прикрывает череда одинаковых, покосившихся от времени и плохой послевоенной кладки котельцовых грязных сарайчиков со сбитыми кое-как из горбыля крохотными узенькими дверцами, недавно покрашенными в густой коричневый цвет.
Выход из дворика на улицу предваряют новенькие массивные гадючно-зелёного цвета помпезные железные ворота, тоже, как и покрашенные дверцы сарайчиков, недавно подаренные местным ЖЭКом вечно чего-то требующим жильцам.
Ровно посередине дворика, напротив ворот, находится достижение современной городской канализационной мысли - зловонная выгребная яма, кое-как прикрытая горбатой крышкой, наспех сбитой из нетёсанных сосновых досок. Запах выгребной ямы причудливо перемешивается с ароматом двух белых акаций, устало отцветающих за каменным туалетом, прилепившимся за последним сарайчиком, почти рядом с бывшими конюшнями, в которых теперь обитает чета врачей со своими престарелыми родителями и отпрыском Сашэлэ, годами играющим бесконечные гаммы на стареньком пианино и сводящим с ума своим усердием с раннего утра до позднего вечера весь жилколлектив. Пока родители лечат горожан, бабушка тщательно следит за здоровьем своего внука, так что Сашэлэ почти всё лето носит на голове матерчатую чёрную шапочку с ушами, уши всегда опущены и завязаны шнурками-тесёмочками под подбородком. При этом на руках у Сашэлэ всегда мягкие варежки. И всё это делается только ради того, чтобы Сашэлэ, не дай Бог, не повредил и не застудил летом свою гениальную голову и свои не менее гениальные руки. Бабушка знает, что делает. Она твёрдо уверена, что её внук станет выдающимся пианистом1 .
Утренняя субботняя наступающая жара. Жара не только от раннего, но уже яркого солнца, но и от терзающего душу визгливого воя раскалённой добела циркулярной пилы, укреплённой на небольшом постаменте из крепких деревянных чурок почти рядом с выгребной ямой и распыляющей запах этого чуда во все уголки маленького дворика. Тщедушный мужичонка, искривленный грузом прожитых лет, как старое высохшее дерево, в истрёпанном грязного цвета длинном до пят халате, в крупных мотоциклетных очках на маленьком сморщенном лбишке и в помятом и обсыпанном крупными жёлтыми опилками чёрном берете на яйцевидной головке с огромным чурбаном в маленьких цепких руках яростно атаковывал бешено вращающуюся циркулярку, издававшую при этом звуки, способные поднять мёртвого из могилы.
Жильцы особнячка, которых в нём было напичкано, как тараканов в кухонном столе, движимые обычными человеческими потребностями, выходя во двор из своих комнаток-казематов с мыслями о приятном предстоящем выходном, тут же затыкали пальцами уши и удалялись в свои обиталища. Закрывались окна. Захлопывались двери. После этого наиболее смелые снова появлялись во дворе, стараясь хоть как-то усовестить распиловщика-соседа, но тот на них никакого внимания не обращал и, войдя в раж, ещё неистовее бросался в атаку с очередным поленом на раскалённую пилу, отчего та тут же начинала доставать окружающих аж до печёнок.
Время шло... Уже в незадёрнутых шторками окнах квартир начали мелькать перевязанные полотенцами головы наиболее нестойких жильцов и тревожные лица их родных и близких, уже новые железные ворота, всегда густо покрытые серой дорожной пылью от проезжающих ежедневно мимо них тысячи раз автомобилей и троллейбусов вновь сильно-сильно позеленели, уже дворовый пёс Бобик устал грызть свою сахарную кость, добытую им ещё накануне вечером где-то в одному ему известных помойных дебрях, уже даже Сашэлэ перестал гонять свои, сводившие всех с ума, виртуозные гаммы, уже... В общем, оказалось, что и солнышку давным давно всё это надоело и оно стало прятаться за крону огромного дуба, росшего внизу прямо за сарайчиками... Но шум всё не стихал... И вот тогда посреди дворика появилась Софэлэ, мама Сашэлэ. Вся заспанная после ночной смены на "Скорой помощи", в которой она работала, в наспех накинутом на сильные крутые плечи минихалатике, сквозь который слишком явно проступали все неровности её спокойной мощной фигуры и отчего она сильно смахивала на перевязанную в нескольких местах огромную докторскую колбасу за два двадцать... Софэлэ была темнее тучи. Медленно подойдя к распиловщику, она, не повышая своего крепкого контральто, обратилась к нему:
- Миша!
Миша услышал! Он тут же отошёл на полшага от пилы, но полена из рук, на всякий случай, не выпускал и вопросительно глядел на Софэлэ сквозь густо залепленные крупными желтыми опилками мотоциклетные очки.
- Миша, - медленно повторила Софэлэ, - ты завтра тоже будешь так живодёрничать и пилить тую полену?
- А что? - риторически спросил Миша, осторожно ставя возле себя чурбан на землю и медленно снимая очки, чтобы лучше общаться с Софэлэ. - А что? - повторил он свой вопрос несколько твёрже, - не имею права?
- Миша, - сказала Софэлэ, - я завтра пойду на базар за живыми курями. И если ты, Миша, будешь ещё пилить эту несчастную полену, когда я приду с базара, то я, Миша, повешусь.
И Миша сразу уступил. Он уважал Софэлэ. Нет, совсем не потому, что он раз в пять по массе был меньше, чем Софэлэ. Нет! И не потому, что Софэлэ держала в своей пухлой лапище за квадратную ножку высокую белую табуретку. Нет! Он просто, как всякий мужчина, уважал уже сильные аргументы...
1975 г. Кишинёв
__________
1Бабушка оказалась права: Сашэлэ действительно стал знаменит: окончил Московскую консерваторию, вернулся в Кишинёв и преподавал в местной консерватории, одновременно давая сольные фортепианные концерты. Но дальше районных центров его в описываемые времена не пускали. Он как-то исхитрился через своих московских преподавателей попасть на несколько международных конкурсов, на которых занял первые места. Вскоре после этого он наконец-то попал на гастроли в Италию, откуда не вернулся и переехал в США. Оттуда он, получив широкую известность, стал гастролировать по всему миру. Только после обретения Молдовой независимости, его усиленно и любезно стали приглашать на родину выступать, что он неоднократно и делал. Причём приглашения рассылали те же деятели от культуры, которые его в своё время никуда "не пущали". (Б.П., октябрь, 2004г)
Говорят...
Слыхали? Говорят, планета-то наша перегревается! Все эти фабрики-заводы, пароходы-самолёты... И все - в неё, в родную. В атмосферу, то есть. Опять же, люди. Народищу-то стало! Матушки-светы! Не протолкнуться! И от каждого... Понимаете, да? Жизнедеятельность, в общем. Никуда не денешься. Подсчитано, что на четыре градуса поднялась крепость... То есть эта... Температура тепла! Да! Температура тепла!. Представляете? Это всё равно, что против обыкновенного пивка взять на грудь такую же мензурочку красненького. Без закуси, разумеется. Ага. Или, к примеру, сидеть на балете "Антоний и Клеопатра", когда герой интимно поддерживает героиню за определённое место...Да-а-а...
Хотя оно непонятно: один знакомый рассказал мне, что разные там ракеты-спутники делают в атмосфере дыры. Ракет-то нынче столько понавыпускали, что атмосфера, поди, что твоё сито. Но отчего же тогда лишние градусы через эти дыры в космос не испаряются? Непонятно... Кстати, из-за этих самых дыр у нас на юге многое переменилось. Ага. Космические лучи стали и к нам проникать! Ох, как проникать стали! И кого они хоть как-то заденут, всё! Тот уже... Понимаете, да? Недавно попали в одного моего соседа. Милые вы мои! Он, как только облучился, сразу перестал узнавать всех! Даже своих родных! Ага. Тут же отселился жить к таким же, как он: к облучённым. А ходить-то, ходить-то стал совсем плохо! Всё больше его возят на спецавтомобиле. Ага. Вроде как скорая помощь. И автомобиль-то - чёрный! Ага. Ужас! Чернющий такой! Как ворон! Ага. Одни страсти!
Да что там говорить! Вот у меня дома - собачка. Ага. Болоночка. Раньше животное было, как животное. Что ему природа положила, то оно и делало. Ага. Дом-то у нас старый. Дворик есть, сараи. Главные удобства тоже тут же рядом, во дворе. Ага. В углу двора, если смотреть с крыльца. В общем, всё, как положено. Все, как у людей. Власть же о нас беспокоится. Ага. Раньше, бывало, встану рано. Милые вы мои! Красотища-то! Только дверь открыл, болонка мимо меня - пулей во двор. Ага. Сам же не спеша, солидно следую за ней во двор в главные удобства. И она бежит по своим маленьким собачьи делам. Ага. Выхожу из удобств облегчённый, радуюсь: собачка бегает, резвиться. Травку ест, когда - лето, или в снегу барахтается, когда - зима. Ага. После побежит побрехать на проходящий прямо за воротами троллейбус...
А нынче что? Чую, что и на мою собаку подействовал космос через эти самые дыры. Облучилась! Вот беда стала! Утром уже давно мне следует на работу бежать, а я эту стерву всё никак не могу поднять с её подстилки! Ага. Якобы дамочка спят. Ага. И делают вид, что крепко. Начинают похрапывать даже, когда я, встав перед ними на коленки, пытаюсь униженно заглянуть в их хитро прищуренные глазки, прячащиеся под спутанными ото сна белыми прядками волос. Ага. Чем больше я им рассказываю о прелестях занимающегося дня, о пробуждающейся природе, о текущей мимо наших ворот Амазонке транспорта, который проходит потом почти через нашу кухню, чем больше повествую о поголовном стремлении советских граждан побыстрее выполнить очередную пятилетку в четыре года, о причинно-следственной связи в природе и обществе, о воспитанности, наконец, чем больше я при этом распаляюсь, тем громче храпит это малосознательное животное! Ага. Время идёт и потому я вынужден физически побеспокоить Их Высочество: осторожно дую в распластавшееся во сне розовое ушко. Ага. В ответ начинают рождаться такие звуки, будто кого-то или что-то медленно заводят. Влажный чёрный носик Их Высочества начинает недовольно морщиться, едет немного к закрытым глазкам, обнажая при этом плотно стиснутый ряд ровных крепких белых зубок, ограниченный по краям парой острых желтоватых клычков. Оказывается, мы очень недовольны! Мы не любим, когда нас по утрам беспокоят! И при этом дуют нам в ушки! Ага. Ладно. Применяю другой приём: быстро сдёргиваю тёплую мягкую попонку, которой мы на ночь укрываем эту соню, и мгновенно отскакиваю к входной двери. Гнев Их высочества мгновенно перерастает в гнев Их Величества: меня тут же грубо облаивают и страстно гонятся за мной, яростно хватая зубками за брюки до тех пор, пока я пулей не вылетаю во двор. А собака дальше крыльца - ни ногой! Ага. Успокаиваясь, садится у порога и устремляет на меня свой остывающий взгляд. Ага.
Делать тут нечего. На работу почти опоздал. Поэтому - пулей в главные удобства. Когда выбегаю назад из главных удобств, преданно ищу глазами собаку. А та, как ни в чём не бывало, сидит себе на крылечке. И строго так, недовольно смотрит на меня: то ли оттого, что задержался в главных удобствах больше положенного, то ли ещё отчего. Следит. Я просительно зову её к себе: время же идёт, а её надо перед работой вывести! Но собака даже бровью не ведёт. Ага. Как я начинаю тут подхалимничать! А что делать? Я начинаю вихрем носиться по двору, призывно размахиваю руками, делаю вид, что ем травку, если - лето, или барахтаюсь с упоением в снегу, когда - зима, резво выбегаю за ворота громко побрехать на проходящий троллейбус... Ага. Собака молча с крыльца наблюдает за моими мотаниями. Когда уже глаза лезут, что называется, на лоб от усталости, и я почти на карачках вползаю в квартиру, это необразованное животное степенно входит за мной с сознанием добросовестно исполненного собачьего долга и с чувством полного отмщения укладывается в ещё тёплое кресло на подстилку досыпать. Ага. И так каждое утро! Вот вам и безобидные дыры в атмосфере! Говорят, что скоро вообще наступит конец света...
1978 г. Кишинёв
Нервная жена
"Сегодня в шесть утра жена уезжает на курорт. Лечить нервы. Сегодня в шесть утра жена уезжает на курорт. Лечить нервы. Се..." Стоп! Что это со мной? Я потихоньку начинаю приходить в себя после липкого сна. Открываю глаза. Светает. Понимаю, что будильник вот-вот пойдёт вразнос, но дотянуться до него нет никаких сил. Закрываю глаза и снова погружаюсь в сладкую дрёму. "Сегодня в шесть утра жена уезжает на курорт. Лечить нервы". Боже мой! До меня, наконец, дошёл смысл мучивших меня во сне слов и я, как ужаленный, подскочил с кровати: проспали! Жена, как ни в чём не бывало, сладко спала, подложив обе руки себе под голову. Будильник, задыхаясь, начал уже хрипеть, а из-под кровати вовсю радостно лаял наш пёсик Карлушка.
- Ну-ка замолчи! - шепчу я Карлушке и бросаю в него попавший под руку коробок спичек. - Замолчи!
Карлушка налету хватает коробок, тут же заученно доставляет его мне и ещё громче заливается.
- Боже мой! Ещё только четыре утра! Тише, Карлушка!
Лёжа ещё в постели, я пытаюсь схватить собачонку за что-нибудь, но та, выгнув спинку горбиком и задравши свой куцый хвостик, моментально отпрыгивает в сторону и с громким лаем начинает носиться по комнате. Я, не удержавшись от резкого движения, сваливаюсь с кровати на пол, перевернув по дороге прикроватную тумбочку с хрипящим на ней будильником. Сразу же послышались звуки за стеной у соседей: они начали кричать, стучать в стенку и вспоминать про чью-то мать...
Четыре утра. Жена спит. Сегодня в шесть утра она уезжает на курорт. Лечить нервы. Собачка совсем расшалилась: наскакивает на меня, как на добычу и яростно лает. Я бегу на кухню, хватаю большущий таз для выварки и, изловчившись, набрасываю его на вконец очумевшего от собственного лая Карлушку. По стене продолжают бить чем-то тяжёлым. Жена спит. Ей сегодня в шесть утра ехать на курорт. Лечить нервы. Подхожу к ней. Трясу за плечо.
Маша, вставай. Пора! - Трясу ещё и ещё.
- Ку-мм-му? - не раскрывая рта, вдруг произносит жена и начинает сладко похрапывать.
- Тебе пора! Тебе! Вставай! Надо ехать лечиться!
- Ку-мм-му? - неожиданно прерывая громкий храп, спрашивает жена и тут же переворачивается на другой бок. Тут из-под выварки выбирается Карлушка и снова начинает носиться по комнате и заливисто лаять. Ловить его уже некогда: половина пятого, а в шесть жена уезжает на курорт лечить нервы. Соседи, слышу, начали за стенкой назло крутить сирену.
- Маша, - снова резко трясу жену за плечо. - Маша, вставай же, в конце концов! Поезд ведь уйдёт! Будет плохо!
- Ку-мм-му? - и снова неистовый храп на другом боку.
За окном что-то загудело. Подбегаю и вижу: это пенсионерка Унюхина чешет вниз по водосточной трубе со своего третьего этажа. Одной рукой за трубу держится, а в другой у неё раскрытый зонтик: на случай возможного отрыва.
- Что случилось, - кричу, высовываясь из окна, - мамаша? Что там произошло?
- Пожар! - сообщает она мне хрипло уже почти снизу. - Пожар! Слышь, вон как сирена-то воет!
Выла соседская сирена. Жильцы дома дружно следовали примеру бабушки Унюхиной. Тут я не выдержал:
- Стойте! - закричал я, высунувшись в окно, во всю мощь своих лёгких. - Граждане! Остановитесь! Это - не пожар! Это - Маша спит. Сегодня в шесть утра она уезжает на курорт! Лечить нервы!
1978 г. Кишинёв
За ...ся
По своей природе я человек очень неорганизованный. Другим жёнам такой муж - обыкновенное дело: дала, к примеру, в руки пылесос, озадачила и действуй. Ты прошёлся крест-накрест, для скорости, щёткой по ковру, повозил щёткой кое-как по полу и нетерпеливо кричишь: "Закончил!" Она тебя тут же организует на другую домашнюю работу: мол, давай сними ковёр. Потом суёт тебе в руки выбивалку и выпроваживает во двор. Всё сама организовывает. Спокойно. Выдержанно. Культурно. При этом в семье - порядок, мир, согласие.
Но моя супруга - другого нрава. Начитанная. Учёная. Однажды вычитала в газете, что в наше техническое время даже машину обучают, а не то, что там тебе собачек или, скажем, коров. Раз уж наука таких высот достигла, рассудила жена, можно применить научные методы не только к корове, но и, скажем, к мужчине как таковому. В частности - к мужу. Заманчиво! Например, приходит муж с работы и сам, безо всяких напоминаний, переодевается во всё домашнее, затем опять же без подсказок берётся за... Да что там говорить! Заманчиво!
И вот где-то по большому блату она приобрела рукописную "Методику приучения мужчины ", взяла на работе за свой счёт отпуск на две недели и принялась за изучение методики. Не прошло и семи дней, как с её стороны я начал подвергатьсся воздействию с помощью научного метода: теперь каждый день, приходя с работы, я под строгим присмотром и на научной основе менял одни брюки на другие, туфли - на тапочки, носки в клеточку - на полосатые. Правда, не всегда точно удавалось выполнить всё так, как требовалось по Методике. Тогда жена начинала выходить из себя и обидно кричала: - В отношении таких, как ты, даже наука бессильна! Субьект!
- Если по науке, то для тебя я - объект, - пытался поправить её я.
- Ну вот смотри, ты разве в своём уме? - распалялась она. - Ну, куда ты опять поставил свои грязные тапочки?
...Обучение шло трудно. Без передышки. Выходные были отменены: жена нажимала на интенсификацию...
Однажды в очередной понедельник, начинённый выводами о здоровом влиянии голубых подтяжек на семейный микроклимат, я неуверенно отправился на работу, провожаемый недобрым взглядом своей супруги: я не успевал по всем предметам, отчего обе стороны несли ощутимые потери. По ночам я уже часто вскрикивал, плохо спал и иногда, чтобы как-то забыться, вставал и ставил пластинку с песней, кажется группы "Пламя": "Не надо печалиться: вся жизнь впереди. Вся жизнь впереди. Надейся и жди". Пластинка пела, а я садился бриться в какие-нибудь три часа ночи: а чего зря время терять! Жена же перед рассветом принималась звать кого-то на помощь и издавала звуки, похожие на тех, которыми заклинают змей...
На работе понедельник есть понедельник: оказалось, что уборщица тётя Феня перепутала на моём столе все бумаги. Но как только я принялся приводить их в порядок, как на грех, меня срочно вызвала к себе начальница и велела принести именно тот документ, который я никак не мог обнаружить в этом бедламе. И всё из-за этой тёти Фени, мать её...Я собрал на всякий случай все бумаги со стола, сунул их наскоро в подвернувшуюся под руку папку и рысью отправился по срочному вызову. Начальница сидела за столом и что-то быстро писала. Я вежливо поздоровался.
- Ну, как наука? Бессильна против вас? - Не поднимая головы и продолжая быстро писать, спросила меня начальница. В кабинете было тепло и уютно. Пахло чем-то знакомым. По-моему, чем-то близким, домашним...
- Наука? - автоматически переспросил я и... принялся тут же быстро раздеваться. Ровно через тридцать секунд точно в соответствии с "Методикой приучения мужчины" я стоял перед начальницей в одних семейных в синюю полосочку трусах и в простых, наскоро, на очередных занятиях с женой, заштопанных самим серых носках. Моя "рабочая одежда" была аккуратно сложена на краю сверкающего импортным лаком стола заседаний. Светлые туфли с просунутой вовнутрь (чтобы не морщились) бумагой, взятой из принесённой мною папки, были интеллигентно поставлены у входной двери носками к стене. Подмышкой я держал свою папку и ел глазами начальницу.
- Прошу! - громко сказала начальница, кивнув на стул, стоящий рядом с ней и медленно подняла на меня свои каштановые холодные глаза. Я, скромно поблагодарив за приглашение, медленно и с достоинством отправился по указанному мне адресу.
- Вы в своём уме? - услышал я по пути следования. Я тут же остановился и, как учили, всё тщательно проверил: всё было сделано в соответствии с Методикой. - Ну и субъект! - донеслось до меня.
- Для тебя я - объект! - начал было по привычке я, но вдруг понял, что неправ: забыл переменить носки на домашние!
1979 г. Кишинёв
Цирк
Вам никогда не приходилось работать в цирке? Нет, нет, не артистом! Обыкновенным смотрителем за животными! Кому приходилось, тот знает, а уж кому не довелось, скажу, что от смотрителя до любимца публики - всё равно, что от великого до смешного: ровно один шаг. По крайней мере, это утверждает один мой знакомый смотритель, который однажды попал вот в какую историю.
Случилось это ещё на заре его служения искусству. Работал он в цирке смотрителем группы дрессированных собачек. Всё бы ничего, да вот не заладилась у него дружба с ведущим солистом этой собачьей артели неким бобиком Б. По своей юной неопытности, не ведая о почти канонической злопамятности друга человека, мой знакомый имел как-то неосторожность, будучи сильно не в духе, хватить всеми глубоко почитаемого бобика Б. обыкновенной вульгарной шваброй по его сановитому загривку. Вот именно с этого-то момента их дружеские взаимоотношения заметно ослабли. Бобик Б. не упускал ни малейшего случая продемонстрировать моему знакомому высоту своего положения в цирковой иерархии путём подлых укусов в присутствии знаменитейшей и влиятельнейшей в цирковых кругах своей патронессы. После очередного подкожного действия, бобик Б. становился самСй детской невинностью и даже более того - выглядел совсем-совсем униженно-виноватым, что тут же демонстрировал путём поджатия своего куцего хвостика: старался всячески подчеркнуть, что принял, де, вначале моего знакомого за обычную нецирковую собаку, а потом, де, стыдливо и виновато удостоверился в обратном...
- Какая умница! - говаривала в таких случаях собачья патронесса моему знакомому. - Посмотрите, всё-таки догадался, кто есть ху (она изредка посещала краткосрочные курсы английского перед каждым выездом за рубеж). Ведь как устаёт, бедняжка! Эти бесконечные аплодисменты... А вам, дорогой мой, я сегодня же распоряжусь, чтобы выдали новые штаны. Уж вы нас извините великодушно за такой пассаж!
В течение всего периода времени, покуда произносилась эта покровительственно-разъяснительная речь, бобик Б. был сама ангельская невинность. Более того, вся его фигурка и в особенности его чёрные глазки-сливки выражали ни с чем не сравнимую глубокую скорбь о содеянном. Иногда казалось, что он может вот-вот издохнуть на глазах у всех от своей вины за содеянное. Окончание же речи собачьей патронессы всегда и незамедлительно венчалось со стороны бобика Б. одной и той же привычной процедурой: он торжествующе подбегал к ближайшему неподвижному предмету и задрав свою кривую лапку, оставлял на предмете метку о своей очередной собачьей победе.
Вы думаете, что мой знакомый оставался в долгу? Ничуть не бывало! Перед особо ответственными выступлениями бобика Б. мой знакомый подмешивал в пищу солиста крутого слабительного, отчего у того прямо на арене случался полнейший конфуз, а его патронессу после этого долго отмывали душистым шампунем. Вот не заладилась дружба и всё тут! Ну что поделаешь!
Потихоньку подрывая престиж бобика Б. у доверчивой публики, мой знакомый и не подозревал о существовании могущественных цирковых сил, особенно проявлявших себя в моменты, когда возникала любая угроза цирковому представлению. Однажды случилось так, что в ответ на очередной недружественный выпад бобика Б. мой знакомый подмешал тому в пищу полагающееся по такому поводу слабительное. Да видать несколько перестарался. То ли оттого, что очередной выпад против моего знакомого бобику Б. особенно удался, отчего моего знакомого переполняли чувства вполне определённого содержания, нарушившие его способность различать разницу в объёме между четвертью стакана и четвертью бутылки из-под "Столичной", содержимое которой мой знакомый всегда использовал исключительно только в профилактических целях против собачьего бешенства, то ли по каким другим уважительным причинам, во всяком случае зазнайка бобик Б. начал конфузиться задолго до начала своего сольного номера на арене, чем, естественно, рано обнаружил до сих пор удачно маскировавшуюся угрозу срыва представления.
Администрация цирка забила тревогу. Публика ещё легкомысленно веселилась в своих креслах, предвкушая близкий смех и очередные удовольствия, абсолютно не ведая о неприятности, случившейся с её постоянным любимцем, мой знакомый не менее легкомысленно упивался всем происходящим с его заклятым врагом, но администация цирка уже приняла решение. Машина спасения номера была приведена в движение.
Знаменитый маг и волшебник Лаврентий Ш. вызвал чуть ли не с того света дух не менее известного в своё время исследователя австралийской фауны сэра Кунгуройда З. Абсолютно не прикрываясь никакой цыганской шалью, маг Лаврентий Ш. одним поворотом своих поросячих глазок вогнал дух Кенгуройда З в плоть ничего не подозревавшего и потому воспринявшего всё, как должное, сторожа цирка деда Авраамия Ж. Дед Авраамий Ж., крякнув, видимо от произошедшего с ним перевоплощения, увидал себя посреди австралийских степей сэром Кенгуройдом З., скачущим на цирковой пони за двуногим существом, сильно смахивающим на моего знакомого. В правой руке исследователя фауны в вызывающе блестящих лучах австралийского солнца с достоинством поблёскивала орденоносная двустволка тульского оружейного завода. Исключительно ради науки сэр Кенгуройд З., он же дед Авраамий Ж., разрядил свою двустволку в привычное для него место представителя туземной фауны с целью парализовать волю последнего, что ему, как обычно, легко удалось.
После этой рискованной операции маг Лаврентий Ш. почти без усилий удалил из плоти деда Авраамия Ж. дух сэра Кенгуройда З. Пока изумлённый зал приходил в себя, дед Авраамий Ж. успел пальнуть из двустволки в хорошо знакомую ему часть стоявшего неподалёку от него директора цирка и точно парализовал его волю, отчего директор цирка не своим голосом пообщещал лично деду Авраамию Ж. прогрессивку за второй квартал. Когда же настал черёд выйти на арену безвременно оконфузившемуся постоянному любимцу публики бобику Б., под сводами цирка загремело: "Знаменитейшая дрессировщица Изабелла Г. со своим двуногим другом!". И на арену вынесла себя, расточая налево и направо приклеенные улыбки, патронесса собачьей артели. За ней на коротком поводке еле поспевал мой знакомый с парализованной волей...
1979 г. Кишинёв
На южном базаре
Кто не наслышан или не знает о наших, южных, базарах! Жарища... Всё, что может плавиться - плавится. Всё, что должно выдержать это пекло, напоказ красуется на прилавках, в крестьянских повозках, на машинах, на лотках. Скопища покупателей, медленно, несуетливо движущихся по какому-то ещё не открытому учёными рыночному закону. Словно приливы накатываются на бастионы из арбузов, дынь, винограда, помидоров, кукурузы...
Чем только не богата наша южная земля! Всё, что попадается на пути, тут же трогается, ощупывается, безо всякого спроса пробуется. Под таким напором овощные и фруктовые крепости начинают сдавать и к великой радости их защитников - таять. Каждый базар живёт своей духовной жизнью. Жарища...
- Пирожки горяченькие! - несётся сквозь густое марево терпкого базарного духа, смешанного с разноголосым гомоном. - Пирожки горяченькие!
- Может чего холодненького найдётся? А то скоро стану, как твой пирожок! - патлатый хлопчик в голубой тениске старается зацепить делающую строгое материально-ответственное лицо конопатую девчушку-лоточницу. - На солнце подогрела вчерашние пирожки? - наступает клиент.
- Я дико извиняюсь, где тут водички попить? - массивная фигура с красно-коричневым в крупных каплях лицом оттеснила парнишку, вызвав небольшую тень недовольства на конопатеньком личике хозяйки горячих пирожков.
- Имея такую фигуру, за водой вам надо ехать двадцатым автобусом на водохранилище в Гидигиче, - вмешивается проходящий мимо под конвоем своей жадно доедающей малосольный огурец многопудовой супруги тщедушный мужичок, тяжело гружёный двумя огромными сетками красных помидоров и туго чем-то тяжелым набитым зелёным рюкзаком за худыми плечами. - Вон той ёмкости, - он кивает на видневшуюся у входа в павильон "Рыба" жёлтую цистерну на резиновых колёсах с утоляющей надписью "Пейте много!" - может и не хватить для приличногабаритного человека!
- Вам с сиропом да или с сиропом без? - слышится вдруг совсем рядом и обрадованный услышанным "габарит" начинает продираться сквозь толпу на спасительный голос.
- Ну, ты и юморыст! - супруга круто поворачивается к своему носильщику. - Надо же! Не трать зря энергию! До ближайшего троллейбуса ещё целый квартал! Не дотянешь! Го-сс-по-ди! Другим бабам просто за так достаются такие вот! - она безнадежно глядит вслед гонимому жаждой и ненароком своим видом задевшего её за больное крупногабаритному мужику. - А тут... - И ожесточённо хрустит огурцом.
- Я спекулянтка? Я спекулянтка? - неподалёку, перегнувшись через разложенные на потрескавшемся дощатом прилавке небольшими кучками вялые, с сильно побитыми боками бледнозелёные сливы, неопределённого возраста дородная торговка пытается достать своей ручищей испуганно отступающую от неё старушку. - Да где ж это видано, чтоб заслуженного рядового труженика нагло обзывали такими заокеанскими словами! Не мои сливы! Ха! Если у меня невестка трудится в овощном магазине, так я должна в другой город ехать торговать? Спекулянтка! Да чтоб ты...
- Эй, девушка! Куда же вы? Постойте! Не хотите покупать? Не надо! Я угощаю! Бери, сколько хочешь! Не жалко для такой красавицы! - обладатель целой горы винограда догоняет и держит за рукав яркожёлтой сорочки кого-то в джинсах. - Ты - не девушка? А кто? ... А каблуки? Что? Я - деревня? Так ты же - с завивкой и маникюром!
Эй, малый! А ну перестань поедать зря добро! - продавец винограда бросается назад к своему прилавку, оставив модного парня в джинсах. - Что, кисленького хочешь? Слушай, ты кто? Ты - "захотел" или "захотела"? Что? Почему пристаю? Эй, девушка! Куда же вы? Постойте! Не хотите покупать, не надо! Я угощаю!..
Жарища... Всё, что может плавиться - плавится...
1980 г. Кишинёв
Оборотень
В одной из гостиниц провинциального города N был случайно обнаружен труп оборотня. Событие это, бывшее целую неделю в центре внимания неизбалованных сенсациями местных жителей, теперь уже за далью времени нам кажется не столь значительным. Но в тот год оно наделало немало шума. Прибывший первым по вызову на место происшествия врач "Скорой помощи", едва войдя в номер и не будучи ни о чём предупреждён заранее, чуть было не наступил на небольшую серую дохлую крысу, давно видать остывшую в неудобной позе почти у самого порожка. "Однако же!" - буркнул себе под нос доктор, брезгливо переступая через неожиданно возникшее препятствие. Войдя в комнату и достаточно осмотревшись, он поднял свои удивлённые глаза на сопровождавшего его сухонького, с лихорадочно блестевшими глазами старичка, Филиппыча, администратора гостиницы, колодой застрявшего почему-то по ту сторону порожка.
- Так где же он, Филиппыч? - осторожно спросил старичка доктор. - Где же труп, о котором ты благим матом так вопил в телефонную труку? Полкассеты мы на тебя истратили при теперешнем-то дефиците! Ну? - после непродолжительной паузы снова спросил ещё вкрадчивее доктор, отчего Филиппыч мгновенно вспотел и у него, похоже, случилась крупная сыпь на давно немытой старческой коже, потому что ничего не отвечая доктору, он тут же зачесался. Зачесался сначала потихоньку, а затем сильнее и сильнее. Видимо зуд начал-таки донимать его.
- Ну чего же ты молчишь, старый? -вдруг басом загремел окончательно потерявший тормоза доктор: по городу имела место нехватка обслуживания вызовов и потеря зазря каждой минуты... - Где твой труп я тебя спрашиваю?
- М-мм-ой п-п-пр-ии ммм-не... Вв-в-оо-т он! - Филиппыч, словно застигнутый врасплох вор, указал на свою впалую грудь и начал съёживаться, съёживаться, усыхать, становиться меньше и меньше, но, найдя в себе какой-то остаток своих слабых-преслабых старческих сил, пролепетал: - А-а о-он - и повёл одними глазами в сторону крысы.
- Что-о? - проследив за его насмерть перепуганным взглядом, взревел доктор. - Ты что же из ума уже выжил? Комедию мне тут ломать? В такое-то время? Где труп? По-хорошему тебя спрашиваю!
- Э-этт-о о-о-оон, - мелко стуча зубами, еле слышно пролепетал Филиппыч, - Э-этт-о о-о-оон! Банщик наш, И-ивва-ан И-и-вв-ваныч, о-о-о-бб-орро-ттень, то есть. Я сс-с-сслучайй-йно... гг ггы-гляжу, а-ааа-аа вв-в руке... то-ттой есть, и-и-ииизвините, в лапке...
Тут ужас, кажется, окончательно доконал Филиппыча и он, так и не договорив, с полуслова рванул от доктора наутёк...
Получался ложный вызов. И на кого-то надо было списывать бензин, хотя в те ещё пристойно-политические времена вряд ли кто догадывался, что существует такое понятие, как "дефицит энергоносителя". Но порядок есть порядок и вконец раздосадованный доктор вкупе со своими санитарами кинулся отлавливать беглеца, ибо только он один единственный мог подписать документ на списание израсходованного на вызов бензина.
С великим трудом они настигли старика только во втором квартале к северу от гостиницы, а сама его поимка произошла не без полезной помощи общественности, свидетельствующей о высокой морально-политической обстановке в городе, на поддержание которой местные партийные власти не жалели времени и средств. Земля уже давно одним боком была повёрнута к апрелю, но вдоль тротуара ещё невысокой изгородью, схваченной весёлым утренним морозцем, маялся старый полуистлевший снег и потому вид расхристанного, в одном пиджачишке драпающего от кого-то старичка подсказал слонявшемуся тут сбежавшему с уроков школьнику, что ловят вора... Прогульщик резко бросил свой неподъёмный портфель под ноги деду и того тут же "повязали".
Пока работники "Скорой" выясняли свои производственные отношения с дрожащим до всякого неприличия администратором злополучной гостиницы, на совершенно ничего не подозревающие власти города обрушилась целая лавина требовательных телефонных звонков и делегаций дотошных сограждан. Всех волновал один и тот же жгучий вопрос: правда ли, что исчезнувший на днях один единственный в городе банщик Иван Иванович был на самом деле инопланетянином и когда местной бане следует ожидать очередного пришельца? Сами власти же, плохо понимая истинную причину такого вселенского беспокойства, на всякий случай отбивались, как могли: на пути к ним их сограждан был немедленно установлен медицинский пост, отправляющий всех без исключения членов делегаций в наспех оборудованный по этому случаю специальный изолятор на предмет обнаружения у них чесоточного клеща. Городская телефонная сеть срочно переключилась на режим профилактического прозванивания, а единственная местная газета - огран нерушимого блока коммунистов и беспартийных - весь свой малый формат отдала под выписки из первоисточников марксизма-ленинизма о глубоком различии между материализмом и идеализмом. Однако волнение в городе не спадало...
Тем временем бригаде "Скорой помощи" нелёгкими совместными усилиями с подоспевшей вовремя общественностью и милицией удалось, в конце концов, выбить из полузадушенного животным страхом Филиппыча некоторые строго служебные сведения. Оказывается, третьего дня вечером они с банщиком, отмечая очередные успехи городского сервиса, наклюкались по-чёрному. То есть заехали не туда. Пили в номере, который предусмотрительный Филиппыч всегда держал в резерве. На всякий пожарный случай. Когда же уровень принятого вовнутрь окончательно залил глаза и поднялся чуть повыше бровей, оставляя у обоих приятелей нетронутыми лишь их голые макушки, Иван Иваныч (Филиппыч это твёрдо помнит) неожиданно превратился в большую серую крысу. Такой поворот событий не очень-то удивил в тот момент уже стоявшего на полу на одном колене и одной руке невозмутимого Филиппыча: он от кого-то слышал или, кажется, видел в кино, что нашу землю иногда посещают существа других планет, способные у нас превращаться в кого угодно. Хоть в кролика, хоть в крысу. Чего только на этом свете не бывает! Но всё же для полной своей убедительности Филиппыч с интеллигентными словами "Алло! Что у вас там новенького?" попытался ухватить крысу за хвост. Да покрепче. Да чтоб не вырвалась. Но тут же был немедленно злобно укушен за указательный палец, оказавшийся ближе всех к длинному и толстому пористому крысиному хвосту, который в этот момент сильно смахивал на знакомый нос бывшего банщика Ивана Ивановича. Последнее, что запомнил потрясённый такой наглостью Филиппыч, это полные глубокого удивления и возмущения слова крысы, произнесённые голосом банщика: "Шо же ты, козёл!...", за которыми последовал грубый удар ему промеж глаз. Оказывается, жизнь на других планетах в чём-то напоминает нашу!
Очнулся Филиппыч, когда скупое ещё по-зимнему солнце довольно прохладно уставилось ему прямо в глаза. Хотелось сильно пить. Лежа на спине, он с большим трудом разлепил левый глаз и принялся, было, за правый, но с досадой оставил это нелёгкое занятие: под спиной было маленько мокровато. Это обстоятельство его ненужно отвлекало. Но он заострил вопрос и резко повернулся на бок. При этом его банально нывший нос коснулся чего-то такого, что не являлось мягкой тёплой рукой его жены Маркеловны, всегда пахнущей устойчивым специфическим запахом давно требующей переклейки обоев кухни. Нет, это была не её рука. "Что за ноктюрн! - подумал в тот момент Филиппыч и с большим усилием подогнал ко лбу постоянно ускользавшую куда-то ленивую мысль. - Шопениада какая-то..." Это обстоятельство позволило ему сразу напрячься, сосредоточиться и разлепить оба глаза. Он нашёл себя на голом полу по соседству с опрокинутой бутылкой, содержимое которой кое-что ему тенденциозно подмочило. Нос его упирался в холодное брюшко навечно откинувшей свои лапки вчерашней крысы... "Иван Иваныч... Бедняга... Околел..."
После этого случая Филиппыч на три дня законно забюллетенил. Но на следующее утро, когда его непростая болезнь начала стремительно рассасываться после того, как содержимое четверти самогона, так неудачно запрятанной глупой Маркеловной в переполненной выгребной яме, торчащей прямо посередине их двора, перекочевало ему за воротник, когда его страшная болезнь начала стремительно рассасываться, Филиппыч очумело уставился в маленькое окно, выходящее на местный перепуток: в геометрическом центре перепутка в ярких лучах выбирающегося из-за горизонта ленивого солнца бриллиантово сияла высокая сигарообразная ракета, устремлённая ввысь, к высоким космическим далям. На самой её вершине в больших круглых тёмных очках во всё лицо восседал совершенно голый банщик Иван Иваныч, готовившийся, по всей видимости, к беспосадочному космическому полёту...
- Фу-у! Слава тебе, Господи! Опять оборотился! - радостно вскричал Филиппыч и, просветлённый, бросился к себе в гостиницу досрочно отдавать заныканый ранее номер народу. - Слава тебе, Господи!
Когда его трудное подвижничество было уже почти завершено и облупленная дверь номера была почти отворена, Филиппыч вдруг обнаружил, что с другой стороны порожка на него скалится всё та же серая дохлая крыса, давно остывшая в неудобной позе... Филиппыч побежал вызывать "Скорую"...
Позже "Скорая" забрала крысу в свой морг "для проведения перспективных космических научных исследований", а по пути тайно выбросила её в ближайшую канаву, чтобы не доводить до перенакала городскую общественность. А банщик объявился в городе ровно через неделю. Небритый, осунувшийся и остриженный под ноль. "Попал на румынскую границу. У них там через реку свадьба была. А я туда решил зайти повеселиться. Меня на мосту и взяли. Выясняли личность", - неохотно пояснил он. Напряжение в городе N начало понемногу спадать, и власти принялись потихоньку разъезжаться к семьям на дачи...
1982 г. Кишинёв
Нахалы
Слышь! Заикаюсь я. Особенно сильно, когда волнуюсь. Уф! Еле выговорил! Извини! Пожалуйста! Очень сильно волнуюсь! А всё из-за чего? Да нахалов развелось видимо-невидимо! Вот с троллейбуса меня сегодня скинули двое контролёров. Мол, ехал без билета. Да я же не привык! Я же всё время - на своём "Жигуле"! Нахалы. Вообще полная невезуха началась с того дня, когда я явился домой с работы ночью и без "Жигуля". А жена, бляха, меня домой не пускает!
- Где, - говорит, - наш "Жигулёнок"? Где он, родной мой? - и давай рыдать, ещё ничего толком не зная.
- А я тебе кто? Посторонний? - спрашиваю. Пока спрашивал, она успела сбегать к соседке за солью.
- Нет! - истошно заорала, вернувшись от соседки. А я как раз только что закончил фразу. - Валя сказала сейчас, что ты - хуже! Ты - муж! - и бьёт меня чем-то твёрдым промежду глаз.
- Где, - кричит, - моя машина, мерзавец? Опять у Надьки шлялся! Опять её накатывал? Опять у неё забыл? Пьянь несчастная! Да я тебя сейчас...
Я быстренько увернулся и пробежал рысцой в спальню. Вот нахалка! За что? Я же - с работы! Сама же умоляла, чтоб вышел во вторую: мол, с ребёнком некому днём поговорить. Ну я договорился выйти во вторую и с утра беседовал с ребёнком. До обеда, пока на работу не уходить. Скажу, не хвастаясь: дитя слушало, вытаращив на меня глаза, пока я что-то ему рассказывал. Не помню, правда, что. Кажется, что-то из жизни кроликов. Да, точно. Про кроликов. А в это время подошла с работы жена, глянула на малыша, ахнула и утащила ребёнка в поликлинику. Сказала - к психиатру. Вот, бляха! В чём я виноват, если ребёнку интересно и он тоже начал заикаться, как я! Правда, уже выпучивать глаза начал, а я этого ещё пока не делаю. Ну, я поехал сразу на "Жигуле" на работу...
Теперь смотри. Все нормальные мужики отдыхают на работе днём. Так? И вместе с начальником. Так? А мне в нашем отделе пришлось самому маяться до полуночи. А начальник из дома каждые полчаса звонит, бляха. Интересуется, не скучаю ли.
- Нет, - отвечаю, - не скучаю. "Жигуль" свой караулю. Томлюсь.
- Не спёрли ещё? - выспрашивает.
- Нет пока, - успокаиваю.- Пока - порядок.
А в конце смены замечаю, какое-то шевеление возле моей машины.
- Эй, - кричу, - кто там? Вы чего это там вытворяете?
Пока я, это, спрашивал всё у них, гляжу, а двое понесли уже за дом колёса от моего "Жигуля". Ну, нахалы! Я давай звонить в милицию, да где там! Пока я дежурному втолковывал, что да как, они у себя там успели четыре кражи со взломом раскрыть! Так они мне сообщили. Вот нахалы! А от "Жигуля" после этого остался только один стоп-сигнал!
А с женой мы расстались. Из-за моего заикания. Теперь вот хожу на сеансы к логопеду. Хочу с женой помириться. У неё сейчас двадцать четвёртая "Волга"...
1986 г. Кишинёв
В Египте было всё же хуже...
Между прочим, то, что однажды случилось в провинциальном городке N с моим знакомым младшим администратором местной гостиницы Филиппычем, который сам всех запутал своим поведением, искренне приняв, будучи в изрядном подпитии, своего близкого собутыльника банщика Ивана Иваныча за инопланетного оборотня в облике гостиничной крысы, не прошло бесследно не только для всегда полусонного, но в то тревожное время не на шутку взбудораженного городка, но и для самого виновника событий, хотя крепко возмущённые власти и не составили на сей раз никакого протокола в отношении Филиппыча. Может посочувствовали его непростому предпенсионному душевному состоянию, а может ещё из-за чего. Только протокол на свет не появился и Филиппыч законно бюллетенил, отпаиваемый какими-то тайными отварами своей всезнающей Маркеловной. Однако в нашей матушке-Природе, как известно, ничто бесследно не проходит и все страсти, бушевавшие в N, причиной которых явилось первобытное поведение Филиппыча, хотя вроде бы и покинули городок, но в соответствии с твердыми, как обещания очередного голодного кандидата в мэры, законами физики никуда не исчезли, а принялись доставать тех, кто обитает повыше нас - в Космосе. А это космолякам очень не понравилось: не было никакой гарантии, что, выйдя с бюллетеня, Филиппыч на этот раз не подымет спьяну на ноги уже всю область по поводу, скажем, внезапного наступления Нового Потопа. Однажды был уже случай, когда Филиппыч, покинув свою очередную дружескую компанию, вышел во двор забегаловки по малой нужде и принял стену соседнего сарая, выкрашенного в бело-голубой цвет, за волны Балтийского моря, на котором он когда-то служил во флоте. Всеобщую панику тогда удалось вовремя локализовать, не то быть бы беде... Поэтому "там" решили область, в которой находился родной городок Филиппыча, а заодно и самих себя прочно обезопасить.
...Около трёх часов утра Маркеловна, супруга Филиппыча, как потенциальный свидетель, была "ими" переведена в глубокую фазу сна, а на Филиппыча, как на главного виновника торжества, сначала навели оцепенение конечностей, а чуть попозже - полное бессилие. Перепуганный насмерть старик квадратными глазами наблюдал, как его извлекли из постели, пронесли сквозь плотно закрытое окно, через которое он совсем-совсем недавно наблюдал отлёт на ракете в небо своего друга банщика Ивана Иваныча, и, ничуть не повредив, в одном мятом исподнем доставили на борт НЛО в зелёную комнату-лабораторию. Торопились. Поэтому не спросясь, его тут же уложили на плоский длинный стол и взяли анализы крови, мочи, кала и спермы. С мочой и калом никаких проблем не было - сказалась необычность ситуации, а со спермой произошла небольшая заминка, но "они" тут же на что-то легко надавили и "препарат" сразу резкой струйкой брызнул на подставленное плоское прямоугольное стёклышко. Как ни старался вскинувшийся было Филиппыч запомнить, куда в подобных ситуациях надавливают, ничего у него не вышло: память была блокирована. Затем Филиппыч увидел длинный, сантиметров двадцать, металлический стержень, похожий на карандаш, перед ним опустили зелёную занавеску и сказали: "Не надо это видеть. Сейчас мы тебя навсегда отучим от глухого пьянства." Потом Филиппыч почувствовал себя совершенно голым и что ноги у него там, за занавеской, согнуты в коленях и свисают со стола.
После небольшой паники и замешательства Филиппыч освоился, было, со своей новой ситуацией и попытался закричать и позвать на помощь, но тут же почувствовал страшную, дикую, невыносимую боль. В место, известное в литературе под стыдливым названием "чуть пониже спины", ему медленно загоняли длинный раскалённый стержень. Старик, никогда не отличавшийся высокой общественной активностью, мгновенно вспомнил Михаила Горбачёва с его антиалкогольным законом, успел сообразить, что "процесс пошёл", услышал, как в тумане, слова "Больше пить не станешь" и в этой полной неразберихе напрочь отключился...
Когда наутро Маркеловна еле-еле пробудилась, она нашла своего супруга одиноко сидящим в полной меланхолии в одном исподнем за столом у окна. Он постоянно произносил совсем непонятную ей одну и туже фразу: "Я всегда буду в первых рядах литературы..."
- Отец? Ты чё это после ночи-то? Может тебе того... нехорошо? Может тебя где просквозило? Или, поди, недоспал? - Взволнованная Маркеловна совсем растерялась и бестолково суетилась вокруг бормочущего и беспомощно глядящего в пустое пространство супруга. А тот вдруг замолк и стал как-то странно рассматривать Маркеловну. Да так, что ей показалось, будто он впервые её видит.
Филиппыч, позже уже сидя за столом, не зря пребывал в полной прострации. Дело в том, что он, Филиппыч, был как бы уже и не он, а кто-то совсем другой. Даже точно - не он! Он глядел на всё, что его окружало, как бы с высоты и сторонним взглядом. Как будто это его не касалось и он был не отсюда, не из этого дома, не из этой постели и не вокруг него сейчас суетилась его Маркеловна. Он здесь был как бы ни при чём. Ему стало от этого не то, что не по себе. Нет! Он начал испытывать нечто, похожее на то состояние, когда он впервые увидел своего друга банщика Ивана Иваныча мёртвым оборотнем. Это было что-то близкое к паническому ужасу.
Да и было отчего так испугаться: всё, на что падал взгляд Филиппыча, становилось ему отчётливо видно со всеми внутренностями внутренностей! Более того, упёршись взглядом с расстройства от всего обнаруженного в себе в обыкновенный старый стол, за которым он изволил пребывать в это странное для него утро, буквально зацепившись взглядом за прикрытую линялой скатёркой грубую столешницу, чтоб, не дай Господь, не упасть со стула, ибо от всего им в себе обнаруженного его водило из стороны в сторону, он ясно узрел редкий сосновый лес, двоих мужиков с бензопилой "Дружба", отпиливающих ветки от только что ими поверженной красавицы сосны. Сосна трудно умирала. Филиппыч разглядел, как вокруг её свежего среза мерцали, постоянно переплетаясь друг с другом, лиловато-серые, голубовато-серые и яркие искрящиеся кольца. Сплетение колец сверху донизу пронизывали волнообразные полосы синего цвета с красноватым оттенком. Вся эта многоцветная дымка судорожно дрожала, трепетала, затихая-затихая, краски бледнели, обесцвечивались, растекаясь по окружающему пространству. Далее Филиппыч видел, как мёртвую обезглавленную сосну трактором отволокли на какой-то двор, распилили на доски, а доски сложили штабелем для просушки. А вот мужик взял доски из штабеля и принялся мастерить стол. А вот и сам Филиппыч. Ещё молодой. Покупает этот стол и несёт его, кряхтя, на себе домой...
- Боже мой, - бормотал Филиппыч, - Боже мой! Да ведь это же я молодой! - Не замечая своего движения, он ласково гладил ладонью столешницу поверх скатёрки... - Это же я... А каким был!
Тут Филиппыч обернулся немного назад, повинуясь выработавшейся за многие годы совместной супружеской жизни привычке всем необычным сразу же делиться со своей Маркеловной, и обмер: его взгляд совершенно непреднамеренно упал на ту её часть, которая ему была больше всего знакома. Он с ужасом обнаружил там многочисленные следы (слава Богу добрачной!) "модус вивенди" своей супруги. У него тут же перехватило дыхание и что-то сильно застучало в груди. Может это стучало обыкновенное сердце, а может - вконец оскорблённое запоздалое мужское самолюбие.
- А как клялась! - начал наливаться кровью Филиппыч, - как распиналась! Дескать, обманул, проклятый, пообещав жениться без наличия неполного среднего образования! Боже! Да сколько же их там! Один... Два... Три... Четыре... Господи! Вот он, подлец криворотый! Шестой! Что-то больно морда знакомая! Ну-ка, ну-ка! - Филиппыч, в ознобе, принялся острее вглядываться в "то" место Маркеловны. - Кудрявый-то какой,- плюясь в душе, ярился Филиппыч. - Я щас бы тебя за кудри-то твои, мать твою...
Тут он оторвал свой потемневший взгляд от "того места", как от магнита. Оторвал с усилием и с вполне определённой целью: желал задать кудахтающей над ним благостной Маркеловне один единственный вопросец.
- Неужели, - начал, дрожа и глядя ей прямо в её правдивые и преданные глаза, - неужели баншик Иван Иваныч был в молодости "по жеребячей части" и абсолютно кудрявый?
- Хто? - после небольшой запинки севшим голосом переспросила его Маркеловна, отдёрнувшись от него, как после удара током. - Ты, это... отец... - немного приходя в себя, осторожно начала Маркеловна, - после ночи-то... немного того... Делаешь, я бы сказала, совсем безответственные заявления. Вот сначала ты вдруг захотел быть в первых рядах литературы. Ну, какой из тебя, к лешему, литератор! А теперь вот с Ванькой... Да почём я знаю, каким был в молодости энтот конюх! Чтоб он совсем облез, как пёс, собутыльник-то твой! - завершила в сердцах свой небольшой отступной монолог Маркеловна и повернула, вконец оскорблённая, побыстрей к выходу. Филиппыч уже безо всякого удивления увидел, как её ауру сначала разрезали радиусы из красно-синих полос ("В точку попал: ждала вопросца-то!"), а затем вся аура зарябила маленькими оранжевыми и жёлтыми точками ("Заволновалась! Ишь ты!").
- Как же она лжёт! - почти вяло отметил про себя Филиппыч.
Сразу всё окружающее, вся эта постылая современность перестала вдруг его волновать, что-то вокруг него то ли сместилось, то ли перегруппировалось, как в детском калейдоскопе, и он увидел себя в своей третьей жизни в Африке, на заросшем густым тростником берегу голубого Нила. Стояла жуткая жара...
Его третья жизнь Филиппычу явно пришлась не по душе: во-первых, по тамошним египетским законам он должен был быть немедленно изувечен после того, чтС он выдал на гора Маркеловне, оскорбив её женскую честь. Хвала богу Озирису, что там эту филиппычеву глупость, видимо, не заметили. А может, это от Маркеловны ничего не отошло в Космос, как от абсолютной атеистки и активной жэковской общественницы? Потом опять же нельзя нигде, как у нас тут, спокойно "принять на грудь". Хоть ты и вылеченный от этого злого недуга, но всё же, скажем, для чистого интереса, для, пардон, простой эмпирики: в этом Египте только ты хвать за кубок с чем-нибудь этаким, как тут как тут уже какой-нибудь Хамит-эфиоп тебе в морду деревянной мумией тычет: мол, напоминаю пьющему, что от вина, мол, можно и того... Сыграть... Срамота! Сра-мо-та! Опять же жара! Африка! Деться-то некуда! Живи и всё тут!
А такая дикость, как эти фараоны! "Абу, подай то! Абу, подай сё!" (так в той жизни звали Филиппыча). Да всё подай во-время, всё - поскорей, на бегу! Не то рискуешь остаться без головы! С ума сойти можно! А тут ещё Верховный Жрец, как на грех, привязался, подлец: "Абу, - цедит он важно при каждой встрече, - подойди ко мне, неверный! Ты, презренный хамит, прислуживающий нашему фараону! Злой бог Тифон вновь принёс на египетские поля из соседних степей горы песку! Он требует жертвы! Наш Великий Аменемха Третий перестал выслушивать мои советы и внемлет только твоим низким намёкам! Горе народу Египта! Тифон требует жертвы! Готовся, Абу!" Чтоб ты пропал, волосатый!
А во что верят эти тёмные эфиопы! Смотреть противно! В переселение душ! Якобы душа человека после его смерти в течение нескольких тысяч лет переходит от одного животного в другое и, наконец, возвращается опять в тело человека. Ну, а раз так, то тело после смерти надо сохранить от гниения, чтобы оно дождалось нового пришествия своей души. А как сохранишь? Надо из тела делать мумию. Теперь вот каждому ребёнку известно, да и сам Филиппыч читал в газете "Время", что человек - это биологический компьютер, что душа - это специальная программа, дающая человеку начало его жизни, завершающая эту жизнь, программа, уходящая из человека в Космос, чтобы затем дать начало новой жизни. Наука! Нет никакой нужды сохранять тело, тратиться на такие дорогие сейчас ароматические вещества, ткани, гипс для бальзамирования, на всякую прочую ерунду. Да ещё - на высечение в горах всяких галлерей, гротов, на строение огромных пирамид, наконец! Ну, просто незачем! Дал, к примеру, бутылку-другую тому-сему, по-быстрому сколотили гробик, обтянули наспех красной материей, чтобы спрятать факт, что доски-то не струганы да не крашены (больно дороговато выходит, неэкономично). Дал ещё тому-сему бутылку-другую - закопали. Притоптали. Отметину сверху поставили в виде крестика или деревянной пирамидки. И с Богом! Насколько всё дешевле-то! От такой экономии, кажется, что всего у нас должно быть невпроворот! Хотя, однако, что-то не наблюдается. Странно. Загадка природы. Или - породы. Да кто его, на хрен, знает, почему? Но всё равно в Египте хуже было!
26.12.1994 г. Кишинёв
Все выше и выше стремим мы полет наших крыл
...Блин! Нигде не берут на работу! - Стар, - говорят, - слишком много знаешь! В смысле "понимаешь". Вот прихожу в один частный институт, спрашиваю:
- Такие-то преподаватели нужны?
- Такие-то? - переспрашивают. - Нужны, нужны! Еще как нужны! У нас часов - тьма! Можете сверх ставки заработать, хотя она у нас, сами понимаете... В наше сложное время...
- Да Бог с ней со ставкой! - прямодушно перебиваю я, - она меня мало интересует. Лишь бы работа была... и... - Блин! Ну, зачем я это ляпнул!
- Ка-а-ак не интересует? - теперь уже меня перебили. - Вы что, филантроп? Альтруист? - И еще более сурово: - Может вы оттуда? - И многозначительно посмотрели ввысь.
- Да нет же! - опять прямодушно отвечаю. - У меня только дедушка был на "альт". Со стороны моей двоюродной бабушки. То ли Альтшулер, то ли Альтфатер. Вообще-то он - третий муж даже моей троюродной бабушки, если точно. Когда композитор Алябьев сочинял своего знаменитого "Соловья", то отец того Альтшулера (или Альтфатера) в это самое время занимался альтруизмом: раздавал птичкам корм на мостовой. Может, это как-то и на меня перешло...
- Ну нет! - говорят, - вы нам не подходите! Еще чего-нибудь выкинете во время занятий... А нынче студент пошел сложный: деньги платит и требует свое...
Ну ладно, думаю, пойду попрошусь в другой какой-нибудь институт и на этот раз, блин, постараюсь быть поумней. Прихожу в другой: так, мол, и так, хочу преподавать, хочу много часов, много денег, хочу...
- Вот как славно! - отвечают. - Сразу видно приличного человека! Хотя зарплата у нас не того... Сами понимаете... В наше сложное время... Но часов - тьма! Можно прилично заработать.
- Хочу! - вожделенно закатываю глаза, - алчу!
Сговорились. Прихожу на первую лекцию. Народ - все с мобильниками и ноутбуками. Вызываю к доске симпатичную мамзель, которая в это время как раз докрашивала один глаз и вся была исполнена желания довести это полезное дело до его логического завершения. Так вот, вызываю я эту мамзельку к доске и прошу ее поделить столбиком 150 на 8. "Оно" удивленно глядит на меня своим недокрашенным глазом, который явно недвусмысленно недоумевает: мол, че ты, старый, репой об дуб боднулся? Потом медленно поворачивается к заворожено сидящим сокурсникам и врастяжку так вопрошает:
- Пацаны! У кого, бля, при себе калькулятор?
- Да нет, миленькая, - прошу я, - тут надо вручную, без калькулятора.
- Ну, ты ващще, - вроде про себя недовольно бурчит мамзелька, но так, чтобы все ее слышали, - точно, бля, с дуба рухнул! Какой сейчас век! - И медленно выплывает из аудитории. После этого занятия меня тут же увольняют: чего еще удумал! Разгонять студентов средневековыми штучками! Не позволим!
Вот, думаю, блин! Опять попал впросак! Все-таки выкинул свое во время занятий! Правы были те, из первого института, что не взяли меня. Ну, дома, как водится, обо всем честно рассказал жене. За что, мол, выгнали... Сами понимаете, что я услышал в ответ. Почти то же, что и в первом институте, куда меня не взяли. Только палитра выражений была попышней и погуще...
Делать нечего: пошел искать новый институт. Третий по счету. Нашел. Тоже частный. Сколько же их, думаю. Но не вслух. Потому что уже меня там спрашивают, чего, мол, желаете. Ну, я, блин, уже ведь опытный, хотя и старый.
- Работать, - говорю, хочу. Много! И чтоб заработать! Я, - говорю, - не филантроп и ни какой-то там альтруист. Кроме денег, - говорю, - самого наиглавнейшего в этой жизни, кроме них, - говорю, - я также не меньше люблю студенток... то есть... простите...их... обоих полов... Могу и обязуюсь за них не только читать, но и считать... Могу...
- Хватит, - обрывают меня, - хватит. Сразу видно, что вы - современный преподаватель. Вы нам полностью подходите. Мы все вместе должны стремиться к тому, чтобы студент к нам ломился, ибо именно он приносит нам наиглавнейшее в этой жизни...
И дальше мне стали излагать Кодекс поведения преподавателя перед студентами в современном демократическом обществе 21-го века. А я, блин, в это время почему-то вспоминал моего прадедушку Альтшулера (или Альтфатера) и реально видел, как тот раздавал птичкам корм на мостовой, в то время как композитор Алябьев сочинял своего знаменитого "Соловья". И, видать, что-то все-таки пропустил из этого самого Кодекса. Потому что прямо на первой же лекции, когда я стойко решал у доски за студентов вопросы деления столбиком двузначных чисел на однозначные, когда я любил студентов, во время их общения между собой и со своими друзьями и домашними по мобильникам, когда... В общем, я увидел, как на заднем столе... Правда, сначала я почувствовал некий табачный дымок, витающий где-то около и рядом и развернул в его сторону свой любопытствующий всегда и не к месту нос. Лучше бы я его не разворачивал! Но все! Что сделано, то сделано! Я увидел, как на заднем столе на карачках стояла кудрявенькая губастая девица с сильно оголенной круглой попкой, будто срисованной с первых полос многих современных демократических изданий, а двое ее дружков, у каждого из которых в руках было по пригоршне цветных презервативов, прикладывали презервативы поочередно к попке, стоя при этом по обе стороны от девицы. Видимо, подбирали по цвету. Чувствовалось, что девица при этом ловила большущий кайф: ее густо накрашенный ротик еле-еле удерживал дымящуюся сигаретку, то и делу искривляясь в замысловатых геометрических фигурах. Но геометрией здесь явно не пахло. Остальная братия, побросав все, вожделенно наблюдала за происходящим...
- Вы что, блин,.. - Я почти потерял дар речи... Вы что это вытворяете, детвора! Тут "пацаны", не прерывая своего занятия, почти хором недоуменно ответствовали:
- Мы - за безопасный секс! Разве вы по ночам не смотрите "Голубой канал"?
- Во-о-о-н! - заорал я истошным голосом, - во-о-о-он! ...
Вечером я клялся жене, что в следующем институте, если меня примут туда на работу, я до конца внимательно прослушаю весь "Кодекс поведения" и не стану больше в это время вспоминать моего прадедушку Альтшулера. Или Альтфатера. Блин.
23.10.2002 г. Кишинев
Процент от глупости
Сижу я как-то на своей кухне и ем борщ трёхдневной давности. Параллельно изучаю объявления в газете "Маклер". А что? Это самая читаемая в городе газета! В остальные газеты раньше только селёдки в магазинах заворачивали. Когда те заплывали в государственные магазины по разнарядкам ЦККПСС. Правда, это случалось довольно редко и поэтому газеты сразу сдавали в макулатуру после их выхода из типографии. А в "Маклер" селёдку никогда никто не заворачивал: когда эта газета появилась, то тут же появились и полиэтиленовые пакеты. Но исчез ЦККПСС . Но зато появилась селёдка и её можно было покупать без чьей-либо разнарядки. Но зато исчезли многие газеты, предназначенные для заворачивания в них селёдок. Но зато... Да, простите, оставим анализ литературных событий историкам - специалистам по селёдке, а сами займёмся поисками работы, которая тоже исчезла сразу, как только стала появляться безразнарядочная селёдка. Но зато вся городская жизнь перестала быть политической и литературной и стала вращаться вокруг "Маклера"! Ну и я, как настоящий горожанин, тоже жду чуда от "Маклера". Есть, которые ждут чуда от Президента страны или там от Мирового Банка. А я - только от "Маклера".
В понедельник еле-еле занял денег у соседей, чтобы дать объявление в "Маклер", что, мол, ищу работу. Под эти деньги всю неделю выгуливал их шелудивого барбоса, бродя за ним с фирменной лопаточкой и полиэтиленовым пакетиком (хозяин бобика недавно вернулся из Мексики и применил у себя их метод выгула собаки). Нет, в пакет я собирал не селёдку, нет. Ну, это не важно. Важно другое: теперь о моих трудовых потребностях узнает вся городская общественность и может быть мы со своей бабушкой на следующей неделе не помрём с голода, сумев кое-что добавить к нашим пенсиям за счёт подработки у какого-нибудь господина.
Сегодня пятница и я изучаю только что купленный (в счёт выгула соседского бобика всю последующую неделю) и пахнущий свежей стойкой типографской краской толстенный "Маклер". Уже почти доедаю свой борщик, как вдруг - звонок.
-- Вы - такой-то?
-- Ого-го! - бодро отвечаю. - Еще какой! Я такой, что...
-- Вот и прекрасно! - тут же перебивают меня. - Вы нам подходи-
те... Мы сейчас затеваем один грандиозный проект и поэтому просим вас немедленнейше прибыть к нам на первую презентацию.
-- Как? - поперхнувшись уже холодным борщиком, вопрошаю: -
прямо, прямо сейчас?
-- Именно, - быстро говорят мне, - именно! Иначе у нас франчайзинг с брендом не сойдутся. А с вами как раз все и сойдется.
-- Что? Франчай...
-- На месте, на месте, миленький, все и узнаете! Только, пожалуй-
ста, побыстрей! В течение получаса! Иначе будет поздно! Сами понимаете: конкуренция. А еще - инерция, протекция и суспекция!
Утомленный стародавним борщем и огромным количеством столь важных слов, я, под удивленный взгляд остолбеневшей супруги почти выпрыгиваю из-за стола сразу без домашних тапочек, штанов и наспех заштопанного свитера. Супруга, правда, все же успевает выдрать у меня изо рта столовую ложку, явно опасаясь, что я "последнее вынесу из дома". Ровно через минуту, одетый для выхода, причесанный и надушенный, молча хватаю из протянутой ко мне руки супруги два лея на маршрутку и исчезаю. Успеваю. Нахожу адрес и вхожу в комнату презентации.
- Мне звонили, - запыхавшись, сообщаю. - Такой-то.
- Входите, входите! - хором обрадованно восклицают немногочисленные присутствующие. - Мы очень рады! Сейчас же начинаем!
Какие милые люди, думаю я. В наше смутное время так встречать просителя работы. Почему-то вспомнился сомнительный лозунг Степана Бандеры "Ще не вмерла Украина!" и я скромно присаживаюсь на кривой стул прямо у входной двери. Стул громко скрипит и все восемь присутствующих добрыми глазами смотрят на меня.
- Я бы хотел... - заикаюсь я, обращаясь к встретившему меня так любезно сообществу. - Я бы хотел узнать...
- Вы все, все узнаете! Потерпите! - тут же подхватывается сидящая за столом у широкой школьной доски стервозного вида худющая, неопределенного возраста, дама. Она явно здесь главенствует.
- Начинаем! Слово имеет Анна! - произносит дама и из-за соседнего стола быстро встает высокая стройная светловолосая хорошо одетая приятной внешности женщина, подходит к доске, берет кусочек мела и обращается с явной долей напыщенности к присутствующим:
-- Господа! Что нам дала Советская власть? Ничего! Я прошла
путь на... (тут она называет одно из крупнейших в городе производственных объединений) от рядовой сборщицы до начальника цеха. Имею кучу грамот за добросовестный труд. И в результате я - на улице. Без работы. Без денег. А что нам дает наш сегодняшний хозяин господин Ухукало? Он дает нам возможность не только хорошо заработать, но и стать совладельцем его огромной фирмы! Он дает нам возможность, в отличие от пресловутой Советской власти, оставить своим детям и внукам определенный капитал! Он дает нам возможность..., - тут она нарисовала на доске первый квадратик, - получать не только процент от продажи товара фирмы, не только процент от объема товарооборота фирмы, - тут дама обрисовала мелом второй квадратик, но и, - тут она многозначительно оглядела всех присутствующих и почему-то очень долго смотрела своими победными глазами на меня, - но и через франчайзинг с помощью бренда стать финансистом и получить свою долю в компании...
При этом дама глубокомысленно закатила свои глазки вверх, туда, повыше к небесам, где, видимо должен был бы сейчас находится их хозяин, их господин Ухукало. Я тоже, охваченный важностью происходящего, в соответствии с тем, как это сделали и все присутствующие, я тоже важно наморщил лоб. "Франчайзинг и бренд", подумал я, это - круто! Хотя в глубине души пожалел, что не захватил с собой английского словаря из-за сильной быстроты сборов на презентацию. Но кто же предполагал, что так вот все обернется! Опять же, можно получить долю в компании. Правда, какую именно, дама не уточнила, но говорила она с большим пафосом, и я понял, что доля будет явно не горькой...
Вслед за первой дамой слово взяла вторая - помоложе и попотертее. Она тоже жаловалась на Советскую власть, на то, что та на том же самом - удивительно! - объединении позволила ей, простой рабочей, проработать двадцать лет, наградила ее орденом, но в итоге эта женщина, как и первая выступавшая, оказалась в наши времена за бортом жизни, предприятие не работает, а капитала она не скопила: не способствовала этому прежняя власть. Но зато сейчас через фрай... через фрай... Она была не так грамотна, как ее предшественница, и через чужое слово никак не могла перескочить. А потому в досаде махнула рукой. Но зато она, мол, сейчас вступила в команду хозяина, приобрела его высоколиквидный товар и употребляет его вместе со своими детьми. И дети, как это ни странно, выросли соответственно до 14-ти и 17-ти лет! Без никаких! Спасибо хозяину, что так заботится о людях и дает им возможность быть здоровыми и собираться вместе, как братья, на такие презентации!
Все с огромным воодушевлением дружно зааплодировали. Я в это время напрягся и пытался сообразить, в чем же будет состоять моя работа. Пока было не совсем ясно, если не сказать больше. Из этих двух выступлений я понял только, что надо вступать в компанию хозяина, чтобы через франчайзинг и бренд стать здоровым финансистом. Неплохо.
Третьим от сообщества выступил, как он сам представился, юрист. Видимо, как юрист он знал нечто большее о происходящем, чем то, о чем поведали две первые дамы. И сие знание вынуждало его постоянно плутовато отводить глаза в сторону. К тому же речь его нуждалась в постоянном присутствии квалифицированного логопеда. Но и ему в конце его спича дружно зааплодировали. Меня в это время совсем сморило ко сну и только бурные аплодисменты несколько взбодрили. Захотелось домой, и я сделал непроизвольное движение в этом направлении.
-- Кхы, кхы! - громогласно напомнила о себе председательствующая. - Мы скоро закончим!
Она строго смотрела мне в глаза. Я потихонечку обратно присел на свое место. Тут председательствующая сама взяла слово. Я ее плохо слушал и искал глазами, кто же еще, кроме меня есть "приглашенные". Судя по тому, как все восемь присутствующих тепло общались между собой, "приглашенными" был только один я. При этом я почувствовал от своего вывода какой-то холодок внутри, но тут меня неожиданно отвлек свежий тезис, долетевший до моих ушей от горячо выступавшей председательствующей:
- Господа! - распалясь, гремела она. - Господа! Франчайзинг с брендом - гениальнейшее изобретение нашего хозяина! Оно позволяет всем нам, заключившим с ним контракт, стать настоящими финансистами и получать свою долю в компании хозяина! Хозяина знают во всем мире! Он - миллионер и знает, как делать деньги. Он и нас научит! Мы не должны учиться ни у каких профессоров! Они не умеют делать деньги! Мы должны учиться у миллионеров!..
Тут ей все присутствующие, кроме вашего покорного слуги, бурно зааплодировали. Вот это да! Действительно сюрприз! Не надо учиться у профессоров, а только - у миллионеров! Вот это номер! Пока я от души восхищался этим тезисом, все восемь "сообщников" дружно преподнесли мне небольшую картонную серую коробочку, поверх которой лежал красиво распечатанный на компьютере и уже подписанный "одной стороной" контракт, в котором удостоверялось, что подписавший его, "именуемый в дальнейшем "членом команды", имеет право стать богатым и обеспечивается методикой, как этого добиться. Методика представляется на аудиокассете, которую необходимо слушать ежедневно перед сном после вечернего чая. Далее следовал номер счета, который открывается в банке для подписавшего "настоящий контракт" и на который будут поступать проценты от дохода фирмы хозяина. За все услуги по оформлению контракта следовало внести всего 33 доллара наличными.
-- Паспорт у вас с собой? - хором поинтересовались у меня "члены команды".
-- Да, - вяло ответил я, - но...
-- Ничего, ничего! - опять же хором успокоили меня, - давайте же его сюда! Мы за вас внесем эти деньги. Подпишите контракт вот здесь. Принесете нам деньги, получите свой паспорт. Идет?
- Но... - опять было начал я...
... Три дня я ночевал на лестничной клетке: жена не пускала домой. Потом все-таки снизошла, выбросила мне на лестницу требуемую сумму и сквозь непритворенную дверь прошипела:
- Иди, дурак, хоть документ назад верни! А то, не дай Бог, заарестуют еще...
Не понимает прямой выгоды. Темная женщина, подумал я. Теперь можно будет сидеть и ждать, пока денежки сами не накапаются!
Ну, я так и сделал: расплатился с командой, забрал паспорт, ставши "членом команды", и начал накануне сна включать и слушать кассету с методикой. Оказалось, что главное в ней это то, что не надо быть хлюпиком, никаких там "если да кабы". Должен быть всегда уверен в себе. И у тебя все получится! Ну, я и был уверен. Сидел и ждал. Сидел и ждал. Потому, что был уверен. Что все получится.
Прошел месяц, и я пошел в банк поинтересоваться: сколько же там мне уже накапало. Прихожу и просто так и спрашиваю. Девица, которая там в окошечке сидит, вытаращила на меня свои блестящие черные глаза и выдавила в моем же духе:
- Дак... это... сухо у Вас тут. Просто сухо... Ничего еще не накапало. Видать, погода у них там хорошая стоит...
Ладно. Сижу еще месяц. Жду. Потому, что уверен: все получится! Так было озвучено на кассете, которую мне дали в счет 33-х долларов, заплаченных за контракт с хозяином. Потом иду снова в банк и интересуюсь. Снова, говорят, сухо. Ну, блин, думаю, чего же это они? Забыли совсем, что ли? Прихожу в "команду". Так, мол, и так. В чем, мол, дело, братцы?
- А ни в чем, - отвечают. - Откуда капать-то будет? Ты че, в натуре, совсем лох что ли? Вот приведешь нам другого такого же, как ты. Пусть заключает контракт. Платит свои 33 доллара. Вот с них и получишь свой процент. А остальное все пойдет хозяину. За гениальную придумку...
- А как же франчайзинг с брендом, которые...
- У профессоров все-таки сначала надо немного поучиться: франчайзинг - это, миленький вы наш, привилегия, а бренд - клеймо, марка, печать позора. То есть договор заключен на привилегию носить на себе клеймо, печать позора, что мы все тут и делаем. Деваться-то некуда. Вляпались по самое не могу. Поэтому-то мы - одна команда. И чтобы как-то жить, набираем себе подобных. И имеем от этого свой процент. Настоящий процент от глупости!
28.10.2002 г. Кишинев
Районная станция переливания крови
Районная станция переливания крови. Полутёмный длинный узкий, блестящий разбитым и начищенным линолеумом коридор. На пустой, обитой коричневым дермантином скамейке, плотно прислонённой к покрашенной в густое серое стене, в повязанном на голове белом платочке в тёмный горошек сидит одинокая, согбенная годами старушка. Мимо торопливо пробегает молоденькая медсестра. Обратив внимание на старушку, приостанавливается и больше для порядка строго спрашивает:
- Вам чего, бабушка?
Старушка оживает, смотрит почти собачьими глазами на девушку, на её белоснежный накрахмаленный и чуть похрустывающий от малейшего движения коротенький халатик, смотрит, смотрит и видно, что она никак не вспомнит, зачем с самого утра сидит тут на пустой скамье. Девушка начинает немного нервничать (работа ждёт!) и, стараясь быть предельно вежливой, медленно повторяет свой вопрос:
- Вам чего, бабуля?
Старушка, почти мыча, начинает махать на неё рукой, ёрзает-ёрзает по скамье и, наконец, кряхтя и запинаясь, выдавливает из себя:
-- Я... это... значить... пришедши сюды... это...
Видно, что ей никак не вспоминается то, из-за чего она оказалась в этом длинном пустом, пахнущем едкой густой хлоркой коридоре. Но вдруг её осеняет:
-- А-а! Так это... я... значить... пришедши сюды... то исть... это... значить... желаю сдать... как его... ну... это...
Она вдруг шустро поднимается со скамьи, воровато оглядывается по сторонам и подносит свои уже почти синие сморщенные губы к розовенькому от наступающего негодования ушку медсестры. Шепчет:
- Притопала к вам сдавать свою либиду!
- Что?!! - девчушка почти теряет дар речи. - С чего это вы взяли что оно у вас есть?
- А как же! - оживляется старушка. - Дохтур мяне давеча проинхормировал!
И немного подумав, довольно уточняет:
- Я находилася у яго по поводу моей свинки!
- А, так вы у ветеринара были? - начала успокаиваться медсестра.
- Я у яго фамилию не выспрашивала, - быстро перебила её бабушка, - но он мяне сказал: "У вас, мол, милая, яще есть либида и энто, быдто бы, дорогого стоить." Вот! Я и заявилася сюды её сдать. Мне она ни к чему, а деду свому я бы купила новые трусы!
- Не мог этот "дохтур" у вас ничего такого обнаружить! Не мог! - в отчаянии закричала медсестра. - Не мог, бабуля! Понимаете?
- А зачем тады он мяне шшупал? - резонно возразила старушка...
18.06.2004 г. Кишинёв
Из объяснительной
Как я был заступивший на смену, я увидел, что какой-то господин пытается перелезть через забор и попасть во двор Российского посольства. Я тут же попытался воспрепятствовать этому противозаконному действию путём стаскивания господина с вышеуказанного забора. Однако тот отбивался от меня всеми своими копытами и кричал, что он есть великий русский поэт Фёдор Т. и возвращается домой из глубокой эмиграции. С помощью подоспевшего полицейского наряда нам удалось связать копыта господину поэту и перебросить его на противоположную часть улицы. Однако вышеупомянутый господин, оставшись наедине с самим собой, удачно развязал свои копыта и сразу влез на то дерево, на котором недавно сидел наш известный депутат Парламента, и принялся, как и вышеупомянутый депутат, громко высказывать своё негативное отношение в сторону посольства и красной коммунистической власти на этой стороне, совсем не подбирая поэтических слов. Предлагаю к вышеупомянутому дереву прибить 120-ти миллиметровыми гвоздями (чтобы не упёрли) современную пожарную лестницу, дабы в дальнейшем не подвергать ненужному риску жизни великих людей нашего края.
20.06.2004 г. Кишинёв
Серьёзное заявление
Один из лидеров очередной "народной" партии недавно заявил:
- Нечего няньчиться с этим Приднестровьем! Вот станет у нас жизнь лучше - сами прибегут!
Мы попросили прокомментировать сей серьёзный тезис г. Чайникова - крупного специалиста в области внутренних и международных отношений: после двухнедельной стажировки на одесском Привозе он несколько дней устанавливал отношения между кишинёвским толчком и одесским "7-м километром", умело обходя заградительные отряды полиции, таможни и ДАИ (до чего же удачную аббревиатуру придумала украинская ГАИ!).
Не сразу поняв суть нашего вопроса, г. Чайников нахмурился. Потом произнеся многозначительное "А-а-а..." , он надолго ушёл в себя, наверное задумался. При этом он постоянно теребил в руках скромно инкрустированную аллюминевую зубочистку и смотрел куда-то вбок, туда же склонив свою умную голову. Наконец, видимо, анализ ситуации был готов и г. Чайников стал ещё более хмур, чем в начале нашей встречи.
- Сами прибегут, - говорите, - сами... Когда, значит, у нас жизнь станет лучше... Но тогда, следуя этой логике, тот миллион местных, который уже "прибежал" на Запад, он больше никогда сюда не вернётся! И прибежавшие в будущем из Приднестровья транзитом рванут на тот же Запад... "Я убегал, меня ты провожала!" - Вдруг фальцетом завокалил г. Чайников и, как нам показалось, немного, совсем немного прикрыл рукой от нас свои глаза. Потом что-то капнуло от него на его зубочистку и от неё пошёл шип и тёмный пар. "Горючая слеза!" догадались мы и скромно удалились, оставив г. Чайникова наедине с его зубочисткой и огромным миром, который задаёт и задаёт вопросы и от которого не отвяжешься, как от ДАИ, подобострастно сунув ей в руку мятую взятку...
26.06.2004 г. Кишинёв
Один президент...
Один президент, будучи уже далеко не в юношеском возрасте, стал плохо видеть, но очки надевать стеснялся. На все документы, которые ему приносили помощники, он долго щурился, а потом, так ничего и не разобрав, молча подписывал. После каждой такой процедуры президент тяжело вздыхал и выпивал рюмку-другую водочки. Просто для расширения зрачков. Просто, чтобы получше видеть. После этого уже расширенными глазами смотрел на окружающую действительность.
Пока поступала следующая порция документов, зрачки уже были сужены до своего первобытного состояния и прежняя ситуация повторялась: президент всё снова подписывал вслепую, после чего - новые рюмашки.
Ему бы, бедному, поменять всё местами: сначала рюмашки, потом - подписи. Но никто такого ничего не подсказал. А он сам не смог догадаться. Так и правил страной: одни ему подсовывали на подпись документы, по которым они забирали в свою собственность заводы и фабрики, леса и пахотные земли, гидростанции и месторождения полезных ископаемых. Другие - чтобы развалил напрочь армию и полицию, от которых им житья не было, третьи...Разные были третьи.
Сколько рюмашек приходилось ежедневно принимать президенту из-за своей стеснительности! Однажды он даже с моста в реку упал из-за этого, когда возвращался с работы с букетом цветов. Говорит, что было два моста и он просто пошёл между ними... Ну больно писать об этом! Однако нашёлся-таки один добрый человек: пришёл он к президенту и говорит:
- Ты, мил-человек, ступай к такому-то доктору и он тебя враз от слепоты вылечит: наставит на тебя таку машину с пушкой...
- Свят, свят, свят! - замахал на него руками президент. - Я тогда не хотел расстреливать из танка свой парламент!
- А из чего ты хотел расстреливать? - уже было хотел раскрыть рот добрый человек, но удержался от искушения и говорит:
- Эта машина - с лазерной пушкой. Это - не танк. Она - для исправления твоего зрения.
В общем, прострелили из лазерной пушки глаза президенту, вышел он из районной поликлиники... То есть, протите, вышел он от врача... Весь просветлённый такой. Тут к нему - сразу рой всяких журналистов-корреспондентов. Что, мол, да как.
- Мы хотим, - глядя в далёкую даль, сказал президент, - чтобы мы открытыми и ясными глазами понимали, что делается в стране!
- Ух ты! - вскрикнул какой-то невыдержанный (наверное молодой!) журналист, - ну чистый тебе царь! "Мы хотим ясными глазами понимать..." Круто! Как же можно понимать ясными глазами? - громко задал он вопрос своему соседу, который, тоже видимо, от недоумения, чесал свой затылок. Так как президент при этом всё время глядел в даль далёкую, он не слышал возгласа невыдержанного (наверно молодого!) журналиста и потому тому придурку ничего не было. Но президент своими ставшими, наконец, ясными глазами всё понимал. Пришёл он на своё рабочее место, выпил тройную порцию рюмашек за успешную работу лазерной пушки, глаза его при этом стали ещё яснее и стал он понимать ими ещё больше. И когда всё-всё понял, тут же начал войну в Шиш-не. Была в его государстве такая провинция...
27.06.04 г. Кишинёв
Один новый русский...
Один новый русский решил забрать к себе в Москву свою старушку-мать, которая одиноко жила в глухой заброшенной властями и людьми деревне. Мамаша не замедлила приехать и немного поосмотрясь, в один прекрасный день заявляет своему отпрыску:
- Сынок! Я влюбилась! Но мой избранник не хочет на мне жениться!
- Да как он смеет, муд... - начал было заводиться новый русский, но мать его перебила:
- Нет, нет! Он хочет, но... чтобы я сначала сделала пластическую операцию.
- Ему что-ли? - спросил сынок.
- Да нет же: себе!
- А-а-а! Тогда это - не вопрос! Дам я тебе бабок, чтобы деду твоему было приятно глядеть на твоё лицо.
- С лица воду не пить, сынок! - философски сказала мамаша, глядя при этом куда-то вбок.
- Да что же ты тогда хочешь сотворить с собой, маманя? Я тебя, в натуре, не совсем понимаю! - новый русский смотрел на мать в некотором замешательстве, чего с ним почти никогда не случалось. - Ну?
- Я, сынок, того... Ну... для деда этого... Ну и как бы для себя тоже...
- Ну же, маманя! Давай врубайся в тему в темпе! Время - деньги! Чего же ты хочешь?
- Дак груди свои я должна подтянуть, сынок. Дед, проклятый, ничего знать не желает: они, дескать, ему мешают мой пупок видеть! В аккурат ему, мерзавцу, открытый пупок подавай! Вот старый козёл! А что мне остаётся делать?
- Да ты чё, маманя, осатанела? Я вижу, что у тебя уже мигрень пошёл по всей голове! - рассвирепел вконец сынок. - Да твой старый хрен, небось, уже вообще ничего не видит, а не только твой пупок, прости Господи! Я вот позабочусь, чтобы сначала ему улучшили зрение, а потом... - угрожающе закончил новый русский. И уехал по своим новорусским делам за границу. А когда через три дня он возвратился домой, мамаша к нему с новой заботой:
- Ты был прав, сынок, спасибо тебе, благодетель: дед стал пупок немного видеть. Но теперь он требует, чтобы ты посадил целую плантацию женьшеня!
29.06.04. г. Кишинёв
Новая операция Ы
Одна женщина очень любила своего небогатого мужа, что нетипично в наше практичное время. Видимо, из-за этой самой нетипичности судьба распорядилась так, что горячо любимый человек отправиплся в мир иной в самом расцвете сил. Женщина очень сильно горевала по своему любимому мужу: не пила-не ела, из дома никуда не выходила, за коммунальные услуги не платила. К ней в дом пытались пробиться работники ЖЭКа, Горгаза, Электросетей, Водоканала, Теплосетей, Телефонной службы, судебные исполнители, участковый милиционер и прочая всякая власть, стремящаяся отхватить у гражданки каждая свой кусок. Но ничего не выходило: гражданка в своём неизбывном горе в дом никого не впускала. Некоторые отчаянные головы (видимо, очень хотелось есть) пытались пробить стенку её квартиры отбойным молотком, но дом, в котором она жила, был построен два века тому назад, когда про отбойные молотки ещё никто ничего не знал, и потому затея пробить стенку этим современным средством потерпела фиаско.
Патриотически настроенные соседи, которым эта гражданская война их соседки с властями не давала никакого житья, решили коренным образом изменить ситуацию: выманить из квартиры злостную неплательщицу и тогда... Ну действительно: не могут же власти голодать только из-за того, что у кого-то умирают мужья, пусть даже небогатые и любимые! Этого ещё не хватало!
Был изобретён тонкий хитроумный план, в соответствии с которым под дверь неплательщицы была подложена записка следующего содержания: "Подруга! Мы горячо скорбим по поводу твоей утраты. Но твоему горю можно помочь: мы, твои соседи, связались с посольствои Индии в нашей стране, которое по нашей просьбе уже выписало из города РаджТаджХиндиКапур святого человека, который берётся тебе помочь. Он вычислит местонахождение животного, в которое вселилась душа твоего Коленьки. Будь сегодня ровно в полночь на углу Чубайсовской и Красного Рошки. Там к тебе конспиративно подойдёт работник нашего ЖЭКа и отведёт тебя к святому индусу."
Записка сработала и многодневная затворница оказалась среди ночи в пустой комнате, посреди которой на голом полу в позе бога Шивы восседал тощий-претощий и смуглый-пресмуглый человек. Он был одет во всё белое (у них там в Индии - страшнющая жара!), на голове его как-то боком сидел красный тюрбан, а на лбу красовалось неровное, как будто наспех нарисованное химическим карандашом, лиловое пятно. "Как он похож на цыгана Ромку, который вечно ошивается в нашем дворе, постоянно норовя спереть всё, что плохо лежит", - мимоходом подумала про себя пришедшая и тут же опустилась на колени перед святым. Человек, приведший её сюда, молча застыл за её спиной. Индус долго-долго смотрел на пришедшую, а затем своими тёмными и давно немытыми руками ("Наверно, Ганг высох этим летом", - опять пришло на ум женщине) начал совершать у неё перед носом какие-то пассы. Человек за её спиной заговорил:
- Учитель говорит, что ты должна пойти вот по этому адресу (рука переводчика оказалась перед лицом женщины и та увидела в зажатой ладони какую-то бумажку), там найдёшь людей, у которых живёт белый пудель. Это и есть твой муж Николай. Адрес получишь, когда передашь Учителю... - Тут он назвал сумму дененг, которую назначил Учитель.
- Ну и цены у них там в Индии! - от неожиданности воскликнула женщина. - Перегрелись, что ли? Да где ж я этому супостату столько добуду? У меня вон и коммунальные ещё не плочены.
- Не плочены, не плочены! - передразнил её переводчик. - Не это сейчас главное! Мужа хочешь видеть?
- А то!
- Учитель сказал, что если сильно любишь, найдёшь!
- Вот нерусская морда! Живодёр! Понимает, проклятый, куда надавить! - Женщина поднялась с колен и добавила: - Ладно! Завтра я тебе деньги передам! Но глядите, субчики! Чтобы без обмана! Не то я из вас обоих сыр Рошфор сделаю! Слыхал про такой? - Переводчик, конечно, никогда ни о чём таком и не слыхивал, но сразу в ответ задакал и утвердительно замотал головой.
... И вот эта несчастная любящая женщина сидит перед хозяйкой белого пуделя, разодетой в пёстрый наряд, и удивляется (опять про себя) :до чего, мол, разнахалились эти цыгане, что начали себе таких породистых собак заводить!
- Сколько ему? - кивнув на пуделя, вслух произнесла женщина.
- Ровно три месяца, - быстро ответила хозяйка. - Да ты смотри, красавица, какой мужчина! Погляди в его глаза! Гляди, как он на тебя взирает! Как он тебя хочет!
Женщина молча взяла из рук хозяйки пуделька и стала смотреть в глаза собачке. Потом начала нежно гладить её по кудрявой белой спинке, по чубастой головке, щекотать за ушками, прижимать к своей груди, в которой в этот момент откуда-то появился резкий жар и сильными толчками забилось сердце. Женщина приложила свои вдруг запылавшие щёки к тёплому и чуть подрагивающему от прикосновения бочку животного. Пёсик начал томно поскуливать и замотал своим куцым и ставшим сразу напружиненным хвостиком: раз, раз! Раз, раз! Раз, раз!
- Коля, это ты? - пристально глядя пудельку в глаза, почти простонала женщина. - А, Коль? - Пёсик нетерпеливо громко заскулил.
- Ах ты родненький мой! Ах ты моё незакатное солнышко! - Женщина принялась яростно целовать пёсика в его влажный чёрный носик, в чёрные пуговички-глазки, почти прикрытые кудряшками, в мягкие, спадающие вниз лепёшками ушки... - Коленька мой!
Пуделёк заскулил громче и уже как-то не так, как прежде, и попытался вырваться из горячих объятий.
- Да ты чё это, Коль? - недоумённо отстранила пуделька от себя разволновавшаяся не на шутку женщина. - Я тебе стала уже противна? За что, Коль? Да я без тебя, Коль, жить не хочу! - Но собачка продолжала вырываться из её рук. - Да ты чё, Коль? Совсем в этой собаке очумел, что ли? Коля?
Собака в руках женщины изгибалась во все стороны, пытаясь как-то вырваться, освободиться. Наконец, видно от безысходности, она цапнула свою мучительницу за большой палец правой руки. Женщина дико взвыла, отдёрнула руки от собаки и пуделёк тут же упал на пол. Долго не раздумывая, он сразу же мотнулся под многочисленные юбки своей хозяйки-цыганки.
- Я так и знала! Я догадывалась! - почти завизжала укушенная вслед беглецу. - Я знала, что ты мне всегда изменял с этой лярвой Катькой! Но знай, что не успел ты помереть, как она, сучка, тут же повязалась с другим кобелём! Ишь, я ему плоха! Вырывается он! Люди добрые, поглядите на этого кобеля! Закучерявился он! Ещё помереть как следует не успел, а туда же! Да будь ты трижды проклят! Да что тебе пусто было на том свете!
... Когда вконец надломленная любовью и таким вероломством женщина подходила к своему дому, её встречала огромная толпа каких-то людей с лозунгами и транспарантами. Лица людей в толпе сияли. Ища хоть какой-нибудь проход сквозь толпу, несчастная обратила внимание, что некоторые из лиц в толпе ей напоминают людей, похожих на работников ЖЭКа, Горгаза, Электросетей, Водоканала, Теплосетей, Телефонной службы, на судебных исполнителей, участкового милиционери и прочую всякую власть. На кумачёвых полотнищах и огромных щитах, парящих над ликующей толпой, огромными буквами оглашалось: "Да здравствует...(далее шли неискажённые, взятые прямо из компъютера фамилия, имя и отчество нашей героини)", своевременно оплатившая все счета по комунальным платежам и тем спасшая нашу родную власть от полного обнищания! Равнение на передовых!"
30.06.04.г. Кишинёв
Девчушка
Девчушка с торчащими во все строны косичками-хвостиками сидит перед телевизором на стульчике, положив аккуратно свои ручки на коленочки, как учила воспитательница Татьяна Ивановна. На экране Ф. Киркоров и М. Распутипа дуэтом исполняют "Розу чайную". "У-у-у е-е! Ты не слышишиь меня! Я не слышу тебя!" - поочередно с яростным надрывом выкрикивает в экран каждый из них. Этот рефрен звучит всё настойчивее и настойчивее. " У-у-у е-е! Ты не слышишиь меня! Я не слышу тебя! У-у-у е-е! Ты не слышишиь меня! Я не слышу тебя! У-у-у е-е... " Ребёнок что-то постоянно не понимает и начинает ёрзать на стульчике. " У-у-у е-е!" - громко несётся с экрана и дядя с тётей в очередной раз резко размахивают руками. Девчушка, пыхтя, слезает со стульчика и бежит к маме на кухню:
Мама! Мамочка! Что это такое " У-у-у е-е" ?
И для большей убедительности она прижимает ручки к своим торчащим косичкам, оттопыривает указательные пальчики и натужно мычит, изображая бодливую бурёнку: " У-у-у е-е!" Мама слышит песню, доносящуюся из комнаты, и, смеясь, поясняет:
- Когда взрослые не понимают друг друга, то они могут так говорить: " У-у-у е-е!"
- Они так ругаются? - уточняет ребёнок.
- Да нет же! - смеётся мама. - Просто они были в долгой разлуке...
- А вот и неправда, мамочка! А вот и неправда! - торжествуя, перебивает маму девчушка. - Вот когда тебя долго нет, то вы с папой - в разлуке. А когда ты возвращаешься домой, то папа тоже размахивает руками и не понимает тебя, но он всегда кричит: "Где ты столько шляешься, мать твою!"
01.07.04. г. Кишинёв
Про Вовика
Родители маленького Вовика купили ковёр "с сюжетом" и повесили в комнате напротив диванчика, на котором спит Вовик. На ковре пышно зеленели экзотические деревья, буйствовали высокие травы, а среди трав проглядывались кремовые бока пугливых антилоп, пришедших на водопой, которых в засаде поджидал хищный полосатый тигр. Тигра и антилоп разделяла неширокая мутная жёлтая река, змеёй извивавшаяся в песчаных берегах и прятавшаяся за небольшим холмистым выступом, изображённым в верхней части ковра.
Два дня всё свободное время Вовик не ходил гонять мяч во дворе, а всё вдохновенно рассматривал покупку родителей. Его детская фантазия будила в нём целый мир необыкновенных приключений. На третий день, едва забрезжил рассвет, Вовик подхватился со своего диванчика и побежал в комнату родителей. Он быстро растолкал ничего не соображающую со сна маму и задал ей прямой вопрос:
- Куда прячется река, на которой тигр охотится за антилопами?
Мама, чтобы ещё хоть чуть-чуть доспать, буркнула сонными губами:
- В Африку.
- Где живут негры? - уточнил Вовик.
- Да, - чтобы Вовик хоть как-то отвязался, сказала мама.
- А почему тогда негров не видно? - не отставал Вовик.
- А ты получше загляни за то место, куда прячется река, - уже совсем ничего не соображая, почти во сне сказала мама.
- Хорошо, - удовлетворился ответом Вовик и оставил маму в покое. Папа, как обычно, сильно храпел.
Когда родители встали, позавтракали и пошли будить Вовика, чтобы отвести его в детский садик, то войдя в его комнату, они увидели, что Вовик стоит на высоком стуле у ковра и вовсю орудует большим кухонным ножом. Ковёр был располосован ровно в том месте, где река пряталась за холмистый выступ, убегая в Африку, где живут негры.
- Ты что же это, паршивец, наделал? - хором возмутились родители. Особенно возмутился папа, который, как обычно, все главные события прохрапел.
- Я тут не вижу негров, - надулся Вовик. - Там обои, а за ними стена. А ножик её не берёт.
- Ну, слава Богу, что хоть стена тебя остановила! - облегчённо вздохнули родители.
- А у славикиного папы есть граната, - с надеждой сказал Вовик. - Я ему звонил только что. Он обещал...
02.07.04. г. Кишинёв
Мама пришла домой
Мама пришла домой. Продрогла. На улице сыро. Смотрит, а Вовик сидит на кухне перед открытым холодильником. Тот уже посинел от натуги: видно, что давно гудит. Вовика тоже трясёт.
- Боже мой! - с порога восклицает мама и рысью бежит к холодильнику. - Ты что же это делаешь тут? - закрывая дверцу холодильника, возмущается мама. - почему холодильник открыт?
- Я греюсь, - дрожа от холода, выдавливает из себя посиневший Вовик. У него зуб на зуб не попадает. - Я-я-я...
- Да кто же так греется, горе ты моё! - продолжает возмущаться мама.
- Да, мамочка! Я это вчера у Кольки видел! - трясётся Вовик. - У него дедушка так грелся!
- Дедушка? - Ничего не понимает мама.
- Да, дедушка! Ды-ды-ды-ы! К нему пришёл другой дедушка, и они всё время открывали холодильник. Колька сказал, что они согреваются...
16.07.04. г. Кишинёв
Извинение
"Наша редакция с глубоким прискорбием приносит свои извинения многоуважаемому г. Якову Ивановичу Козюлькину за досадную, но так по-житейски понятную, ошибку нашей юной сотрудницы, которая будучи проникнута трепетной любовью к этому большому человеку (воистину он заслуживает этого скромного эпитета) в опубликованном петитом материале на 93-й полосе нашего издания в правом нижнем углу четвёртая колонка от края в слове "великомудр" утеряла последюю, мало чего значащую буковку".
________
P.S. Многоуважаемый Яков Иванович Козюлькин! При этом высопочтеннейше заверяем Вас, что если бы, к несчастью, мы бы подумали, что Вы имеете качество, которое как бы приоткрыла у Вас наша юная сотрудница, то материал о Вас был бы помещён не на 93-й, а уже на 99-й полосе нашего издания и не под рубрикой "Ими гордятся", а в разделе "Прочие мелочи". Редактор Семён Гнутый.
________
P.S. Милый Яков Иванович Козюлькин! Я искренне не желала открывать у Вас того качества, которое я как бы открыла, утеряв последнюю буковку в слове "великомудр". Может, кто и знает, что Вы обладатель этого великого достоинства, но я, увы, об этом как бы только догадываюсь. Мы, молодёжь, вас старых*- пенсионеров должны открывать и представлять нашему читателю. Я очень желала бы с Вами познакомиться потеснее и поведать затем читателю о своих ощущениях Вашего великомуд...Не стану дальше продолжать, ибо боюсь снова утерять какую-либо буковку. С уважением и надеждой на близкую встречу. Стажёр Татьяна Основная
*________
Далее следовало, видимо случайно залитое краской слово "козлов", которое я еле восстановила, используя свой немалый опыт реставрации литературных произведений в Институте Мировой Литературы (выпускающий корректор Юлия Тёлкина)
________
P.S. Г. Козюлькин! Друг! Мы с Юлькой Тёлкиной давние подруги. И мы необыкновенно рады, что имеем приятную возможность выразить Вам наше женское восхищение по поводу неожиданного хода событий. Представляете, если бы я, верстая материал, в котором Вы такой мужчина, такой... В общем, если бы компьютер не съел эту, в общем-то не особенно нужную для Вашего имиджа буковку, мы бы сегодня не имели столь приятной возможности выразить Вам, повторюсь, наше с Юлькой Тёлкиной восхищение. Держитесь, Друг! В этой связи на ум приходят приличествующие данному неординарному событию народные строки:
Как у нашего попа,
У попа, у Яшки
Шындыр-Мындыр - по колено,
Яйца - по чашке...
С любовью, Друг! Верстальщик Миша (Мишель) Гейских
23.07.04. г. Кишинёв
В одном государстве...
В одном государстве, экономика которого никак не хотела работать, бюджет пополнялся, в основном, за счёт таможенных сборов, а низкий жизненный уровень населения поддерживался от сползания к нулю за счет неуклонного сокращения количественного состава граждан (наименее сознательные и более шустрые просто разбегались по разным странам). Также неуклонно, как и численное сокращение наличествующих граждан, в местных СМИ публиковались победные реляции о неуклонном росте темпов развития экономики и скором приближении эры процветания.
Но наступил момент, когда собирать всё больше и больше денег на таможне стало вовсе затруднительно и темпы роста экономики грозили нарушить приятные сновидения властей. В ответ на такие глупые козни темпов власти ввели в бой очередные неисчерпывающиеся резервы: во всех районах своей столицы, пополнявшей государственный бюждет на 90%, срочно за одну ночь были тайно возведены так называемые "внутренние таможенные посты".
Однажды утром ты, как ни в чём не бывало, встал с постели, вроде бы хорошо умылся, пользуясь обмылками, доставшимися тебе от приезжавшей недавно к тебе в гости из другого государства 85-летней тёти, с целью определить, не зачах ли ещё на корню её дорогой племянник в лучах всё возрастающих темпов, ты же после тётиных обмылков обсох на ветру, который забегает к тебе через разбитое на кухне окно, и натощак, ничего не подозревая, обычным порядком поспешил за куском хлеба на другой конец родного города. Пока ты пристраивался на сидении жутко скрипящего, громыхающего всем, что гремит, и переполненного до самой макушки троллейбуса, пока ты пытался кое-как увернуться от тяжеленной грязной сумки, которую поудобнее норовила разместить на твоём лице, делающая вид, что ничего при этом не замечает, давно небритая, но наголо стриженная бульдожьего вида личность, пока... Оказалось, что троллейбус давно стоит. Видимо, обычная пробка из подержанных иномарок.
Прошло долгое время, и ты в нетерпении выглянул в форточку, открытую в любую погоду, потому как любая возможность изменения её гражданского статуса навсегда насмерть была заблокирована ещё в парке, ещё пять лет назад, когда её впервые заклинило. Лучше бы ты в то злосчастное утро не выглядывал вообще, потому что ты тут же начал в изумлении тереть тщательно промытые утром тётиным мылом глаза: впереди вереница транспорта упиралась в размалёванный цветами государственного флага шлагбаум, который со своим таким же ярким собратом ограничивал зону асфальта с другой стороны. С обеих сторон ограниченной шлагбаумами зоны взгляд поражали огромные, выросшие за ночь пилоны, украшенные флагами. На пилонах крупными буквами указывалось название районов города, на которых пилоны располагались. Граница. Возле каждого пилона прятался небольшй синий вагончик с узким окошком, а рядом с ним торчал внушительный щит, с надписью. Перед ближним шлагбаумом возвеличивался щит с надписью "Миротворческие силы", а за шлагбаумом бродили некие синие личности с чёрными повязками на левой руке и чёрными дубинками на съехавших набок под их тяжестью ремнях.
По одному, медленно, транспортные средства гуськом проезжали мимо синего вагончика с твоей стороны, под пристальными взглядами синих людей с чёрными повязками и чёрными дубинками пересекали "миротворческую зону" и останавливались перед другим пилоном, из другого района. Когда твой троллейбус поравнялся со щитом с противной стороны, ты увидел, что на нём объявлялось: "Вы въезжаете на территорию нашего района. Всем выйти из транспотных средств и пройти таможенный контроль." Ты в недоумении выбрался наружу и, с теперь уже ставшими тебе почти родными пассажирами, выстоял длиннющую очередь к узенькому окошку в наспех установленном тоже в эту же ночь синем вагончике. Через это окошко синяя личность в форме наскоро ободрала тебя на n-ю сумму, сунула тебе в нос синюю бумажку и прокричала: "Следующий! Не задерживай!"
Когда, наконец, троллейбус начал вновь двигаться, в его салоне по внутренней связи громко заиграл государственный гимн, а народ в полном непочтении молча сидел и глазел по сторонам: не обнаружится ли ещё какое природное явление в это необыкновенное утро. Подобная процедура дальше повторялась с тобой несколько раз, пока ты не добрался до... Впрочем некоторые граждане перестали добираться куда им было надо, с нервными смешками возвратились в свои жилища, очень вспотев при этом. От досады, конечно. И захотели как-то смыть досаду. Но в их жилищах на тот момент отключили холодную воду за неуплату, а горячей не было столько лет, что даже медные краны за это время успели проржаветь начисто. Так в поту эти вернувшиеся по домам в то утро граждане и стали строчить разные уничижительные письма в местный парламент. Ну, парламентарии, понятное дело, в это утро были срочно отправлены на посадку элитных деревьев, завезённых в страну по случаю её очередного темпа роста. То есть роста её темпа. Очередного. Так что, как потом оказалось, вспотевшие граждане успели обсохнуть и прийти в себя. А там власти повысили цену на холодную воду и граждане по одному стали искать природные источники, где бы достать водицы, чтобы не убегать за границу.
К сожалению, водицы достать не удалось, потому что санэпидстанция срочно закрыла все городские источники на профилактику с целью борьбы с различными палочками и предложила закупать воду в бутылках в фирменных магазинах, которые она успешно и давно крышевала.
Тут государственная и частная почта, весь подвижной состав уже было вконец захиревшей железной дороги так заработали, с таким надрывом, что начали перегреваться всякие радиоволны, провода и остальные прочие рельсы и шпалы: народ молил разных там родственников о срочной помощи. Хотя бы на воду. Со всех сторон в страну потекли деньги...
Через короткое время после начала этих событий все средства массовой информации этой страны в один голос сообщили своему народу, что экономика страны как никогда стабильна, темпы её роста выросли на очередные 14%, а это в несколько раз выше таких же темпов передовых мировых держав...
24.07.04. г. Кишинёв
Из объяснительной...
Когда мой начальник начал кричать на меня (на испанском языке), что я плохо работаю, я тут же возмутился (на государственном языке), но чтобы не вступать в дальнейшие пререкания с руководством, вышел на свежий воздух для нейтрализации кислородом большого количества адреналина, которое выделяется моими больными надпочечниками всякий раз, когда на меня кричит начальство. Простояв на свежем воздухе достаточное количество времени и решив, что кислород уже уничтожил весь мой адреналин, я подумал: "Ах ты, падла! Ругаешь меня да ещё и не на государственном языке!". Я тут же вернулся в кабинет начальника и дал ему два раза в глаз. Кажется, - в левый.
Объясняю по существу дела, что всему виной является плохая экологическая обстановка в нашем городе, из-за которой уровень кислорода в атмосфере близок к нулю, что не позволяет эффективно окислять любой адреналин, то и дело вырабатывающийся у больного населения.
Пострадавший от экологии Тудор (бывший Фёдор) Плэмэдялэ (бывший Квашня)
28.07.04. г. Кишинёв
Чего не сделаешь ради детей!
В одной стране жили две её Части.
Одна Часть звала себя Автохтонией, а другую она называла Фиавтохтонией. Автохтония была агрессивной, правила всей страной и сама называла другую её Часть, которая была терпеливой, так, как считала нужным. Всем и вся распоряжалась в стране Автохтония, а Фиавтохтонии доставались только постоянные упрёки да непосильные налоги, которые та должна была вовремя поставлять к дому Автохтонии, но не дальше её порога.
Однажды Фиавтохтония заикнулась было, что хотела бы хотя бы одного своего ребёночка послать учиться в одну из тех стран, в которых учились дети Автохтонии, на что получила естественный отказ: дети Автохтонии - это кадры для страны и фиавтохтонцам такая ноша будет не под силу, потому что они, фиавтохтонцы, пришельцы в эту страну неизвестно откуда и в силу этого не могут быть патриотами этой страны. Зачем напрасно тратить на них государственные деньги, если они выучатся и всё равно сбегут в другие страны!
Фиавтохтония робко возразила, что хотя она в своём имени и имеет приставку "Фи", данную ей Автохтонией, но она, Фиавтохтония, ничем не хуже самой Автохтонии и желала бы, чтобы к ней отношение было бы не таким, как к Золушке со стороны её мачехи. Автохтонии такая смелость со стороны плебейки очень не понравилась. Более того, Автохтония просто рассвирепела от такой наглости. Её, Автохтонию, уравнивать с какой-то пришлой! Чтобы в дальнейшем подобный вопрос даже и не думал возникать, Автохтония тут же набросилась с палкой на Фиавтохтонию и начала ту избивать, приговаривая: "Я те покажу, кто в доме хозяин!". При этом старалась попасть палкой по голове да так распалилась, что чуть было не нанесла серьёзное увечье Фиавтохтонии. Благо та успела броситься в реку, протекавшую в то время по территории этой страны, и скрыться на другом её берегу. Автохтония плавать не умела и махнув на всё рукой, преследование Фиавтохтонии прекратила: ничего, мол, скоро вернётся, как миленькая! Захочет есть и вернётся! Вот тогда я с ней и дорассчитаюсь!
Но Фиавтохтония, на удивление, не вернулась ни к вечеру, ни на следующий день. Зато прислала своей притеснительнице срочную телеграмму (тогда между берегами реки связь ещё работала): мол, довольно, натерпелась, всё, мол, хватит, через край... И т.п. В конце телеграммы крупно жирнело слово "Развод". "Ещё чего не хватало! - прочитав телеграмму, искренне возмутилась Автохтония. - Ежели каждый так станет отделяться, то с кого тогда налоги собирать будем? Да кто тебе какой-то там развод даст? Да..." Тут она быстро связалась с учителями по плаванию, наскоро у них подучилась плавать и бросилась в реку, чтобы переплыть на другой берег: "Вот я тебе ужо!..."
Да не тут-то было! На том берегу у Фиавтохтонии оказались хорошие друзья. С их помощью Автохтонию сильно пощипали и она, не солоно хлебавши, вернулась на свой берег. Но злобу затаила. Разорвала связь с другим берегом и решила действовать против Фиавтохтонии не мытьём так катаньем: принялась платить деньги, вступая в разные заграничные союзы, и уговаривать своих новых друзей не принимать за границей Фиавтохтонию, не торговать с ней, устроить ей экономическую блокаду (это слово в те времена сильно вошло в моду и означало не давать ни есть, ни пить).
Ну, конечно, новые подружки за оплаченные деньги так и стали поступать в отношении Фиавтохтонии. Правда, сперва попытались её уговорить вернуться в лоно прежней семьи. Сулили при этом разные блага и обещали всяческие неприятности. Фиавтохтония не поддавалась ни на какие посулы и угрозы: ей помогали её друзья и она жила в своё удовольствие.
Между тем Автохтония без Фиавтохтонии всё хирела и хирела Её дети начали разбегаться из страны по разным заграницам, чтобы не умереть с голода. Тогда она решила зайти с другого бока: послала своих гонцов к детям Фиавтохтонии, те переплыли реку и принялись сооблазнять несмышлёнышей возможностью свободы вызезда в любую страну мира: смотрите, детки, мол, если сможете научиться плавать в сторону нашего берега, то дорога в мир вам станет открыта так же, как и нашим детям. А ваша мать, мол, не даст никогда вам такой возможности. Да если и захочет дать, то вас с вашими непризнанными документами не примут ни в одной стране мира. Автохтония надеялась, что если дети переплывут на её берег, то за ними вернётся и сама Фиавтохтония и будет снова с кого налоги брать.
И шаг Автохтонии почти удался: часть детей Фиавтохтонии захотела увидеть мир, как его уже видят их сверстники с другого берега. Они создали специальные школы, в которых начали учиться плавать в сторону другого берега. Как ни пыталась им разъяснить истинную правду Фиавтохтония, ничего не получалось: дети есть дети! Чем больше старалась их вразумить Фиавтохтония, тем больше они упорствовали в своем стремлении учиться плыть к другому берегу. Сильно манила сказочная заграница! Но мать есть мать! Она не может оставить на произвол судьбы своих детей. И она их не оставила: закрыла специальные школы, несмотря на то, что дети сильно возмущались и даже отказывались есть вообще всякую пищу, а не только разные мороженые-пирожные.
А что тут началось на другом берегу! Автохтония принялась вопить благим матом, что Фиавтохтония, де, совсем без неё выжила из ума: совершает геноцид над детьми (это слово в те времена привезли из далёкой страны Африки, в которой белые истребляли чёрных), не давая им свободно учиться тому, чему они хотят учиться. "Свободу нашим детям!" - на всех мировых перекрёстках кричала в истерике Автохтония. Сбежались все оплаченные иностранные подружки, поплыли к непокорной Фиавтохтонии и принялись её увещевать: не трогай, мол, детей. Это - святое. Пусть делают, что хотят. Дети же хотят всего-навсего быть патриотами на той стороне! Посмотри, Фиавтохтония: на той стороне уже не осталось почти ни одного патриота. Все разбежались по разным странам-государствам. А у тебя их полно! Имей, мол, совесть, Фиавтохтония, поделись патриотами! Пусть и на той стороне их хоть немного появится!
Последний довод заставил задуматься Фиавтохтонию. Долго думала Фиавтохтония. Она была очень терпеливая и очень добрая. Действительно, думала она, без патриотов любой стране очень плохо. Патриоты, если они настоящие, не только любят свою страну, но и понимают патриотов других стран. Это должно сближать людей. Объединять их во всеобщей любви каждого к своей Родине. "Вопрос, конечно, интересный!", - подумала вслух Фиавтохтония (так любили витиевато выражаться в те времена) и сказала: "Надо делиться!". Она снова открыла школы плавания, закрытые ею накануне. Но теперь в них стали учить плавать и в сторону своего берега...
Прошло немало времени и всё большее количество детей обучалось плаванию в обе стороны, в стороны обоих берегов. Они переплывали с одного берега на другой, с одного берега на другой и тут началась такая путаница, что ни Автохтония, ни Фиавтохтония уже не могли разобрать, где чьи дети. Рассказывают, что в конце концов Автохтония и Фиавтохтония помирились и стали подругами: чего не сделаешь ради детей! А река, которая их разделяла, покрылась мостами и тогда совсем отпала необходимость учиться плавать, чтобы ходить друг к другу в гости...
04.08.04 г. Кишинёв
Недавно по местному телеканалу сообщили...
Недавно по местному телеканалу прошло сообщение о нашествии клещей на наше признанное всем мировым сообществом европейское государство (о непризнанных я вообще промолчу: там такое, наверное, творится!). Озабоченный автор сообщения, делая страшные глаза, предупреждал, что эти паразиты за последние годы так порасплодились, что существует реальная угроза, что они в тебя вцепятся сразу, как только ты выйдешь на какой-нибудь лужок или, не дай Бог, осмелишься появиться в лесопосадке. Особенно яростно неистовствуют клещи - переносчики энцефалита. Автор утверждал, что их в нашем свободном государстве видимо-невидимо и что в каждый данный момент хоть кого-то они да сосут, заражая жертву страшным заболеванием.
Я тут же бросился к домашнему энциклопедическому словарю. Он, хотя и советский, но всё же кое-как поведал мне, что энцефалит - это заболевание головного мозга, сопровождающееся серьёзными осложнениями, вплоть до полного паралича... Дальше я не стану ни вас, ни себя пугать. Во всяком случае после укуса таким клещём начинает, как минимум, сильно болеть голова и ты принимаешься, мягко говоря, вести себя неадекватно.
Меня тоже в своё время кусал клещ. Правда, довольно давно. Когда мы ещё жили при полнейшем застое и иногда позволяли себе на восьмикопеечном бензине всей семьёй отправляться не только в ближайший, но и в более дальние лески. Машину загоняли прямо под деревья и нежились, раздетые, в лесной прохладе. Где-то в этой опасной расслабленной обстановке меня и подкараулил коварный клещ. Я потом долго с ним возился, пока в поликлинике его не попросили вон. Потом я забыл об этой неприятности. Но когда посмотрел телепередачу про клещей, орудующих уже в цивилизованном европейском обществе, я принялся анализировать своё поведение от момента моей последней встречи с клещём. И оно мне очень не понравилось. Точно, что я вёл себя все эти годы неадекватно. Но пока я проводил самоанализ, мне пришла в голову мысль подшутить над своей женой, которая вместе со мной только что посмотрела эту злополучную передачу и тревожно, но молча (что очень-очень редко случается!) глядела на меня. Другой бы, конечно, воспользовался таким благоприятным обстоятельством для полного отдохновения от постоянных различного рода вопросов-заморочек, самоответов, мгновенных обид, упрёков, пения песенок, постоянного усаживания тебя за обеденный стол, когда тебе и так хорошо за компъютерным, и т.п. Но я, как я сейчас уже хорошо понимаю, повёл себя неадекватно в этих обстоятельствах и задал (молчавшей!) жене свой вопросец:
- Маня, - говорю, - ты что это так испугалась? - И продолжил: - Теперь тебе, наконец, понятно, почему у нас тут народ такой перевозбуждённый? Всякие конфликты-блокады, ОБСЕ, страны-гаранты, приливы-отливы? Почему народ так разбегается по разным странам? Почему на днях даже сам Президент срочно улетел на лечение в Карловы Вары, несмотря на то, что из Приднестровья перестало поступать электричество? А бабушка твоей знакомой даже в свои 70 лет (учти, у неё ведь медицинское образование!) бросила своего больного старика и умотала в Италию? Ещё факты? Ну, так тебе понятно?
- Нет, - строго сказала Маня. - Чего это ты завёлся, словно тебя кто-то укусил? Причём тут наташина бабушка с её медицинским образованием? Кстати, средним?
- А вот при том, - гнул своё я, - клещи всех покусали! Энцефалитные! Те, в кого они впились, т.е. тронутые, те - перевозбуждённые! А остальные, ещё нетронутые, всё поняли и драпанули вон! Кто - спасаться, а кто - лечиться! Я ещё не учёл 1800 укушенных бродячими собаками только за последний год и только в столице! И членов их семей! - Я серьёзно смотрел на жену и ждал, что она в меня сейчас чем-нибудь запустит.
- Точно! - вдруг вскричала Маня. - Точно! То-то мне вчера Ноннка (её подружка- пенсионерка) орала в трубку: "Машка, осторожно! Клещи! Даже - в подушках!". - А я не придала этому никакого значения! А тут... Да смотри же: ведь я уже и так вся покусанная! - и она в панике протянула мне свою руку, на которой красовались две большие малиновые блямбы...
07.08.04 г. Кишинёв
Жёны: умная и не очень
Небольшая комнатка. В ней писатель творит свой очередной шедевр. Его жене потребовалось зайти к нему в комнату во время творческого процесса: ей срочно приспичило поискать там какую-то вещь, которую она обыскалась в остальных трёх комнатах, в которых после её поисков всё уже стояло вверх дном.
Что делает в таких случаях не очень умная жена. Она несколько раз подряд открывает дверь в комнату, где творит её супруг, давая ему понять, что ей срочно надобно войти. Писатель делает вид, что на это никак не реагирует, но строчки у него на бумаге становятся неровными и замедляют свой бег. После того, как жена в очередной раз просовывает в дверь свою всю в сплошных бигуди головку и у писателя ветром сдувает со стола на пол его творения, он вдруг в бешеной ярости срывается со своего стула, швыряет в супругу будильником, случайно подвернувшимся ему под руку, и истошно вопит: "Пошла вон отсюда, дура!" Жена, как ужаленная, мгновенно отскакивает назад, прикрываясь дверью, в которую тут же бухает будильник, бежит, громко рыдая, на кухню и принимается доедать вчерашний борщ. Писатель в ярости лупит кулачком по столу и продолжает истошно вопить: "Дура! Дура! Потерял нить! Забыл сюжет! Вот дрянь! Просил же не входить, пока я творю! Просил же! О мой сюжет!.."
А вот что делает умная жена. Она тихонько идёт в кладовку, насыпает там полмиски муки, потом забалтывает тесто и начинает печь любимые оладушки своего супруга, постепенно нагоняя аппетитный запах сквозь щель под дверью в комнату писателя. У того тут же по сюжетной линии героиня принимается печь блины своему возлюбленному, только что тайно примчавшемуся к ней от своей жены-стервы. Писатель в полнейшем упоении выбрасывает на бумагу строчку за строчкой. Запах любимых оладушек с блинами обволакивает писателя. В этот чарующий для него момент осторожно отворяется дверь в его комнату и нежный-нежный голос его супруги вместе с ворвавшимся полной волной запахом оладушек успешно завершают задуманную операцию: "Коленька, милый! Пойдём! Твои любимые оладушки! С пылу-с жару! Пока горяченькие!" "Коленька", еле сдерживая резко набежавшую слюну, тут же начинает двигаться в направлении своей супруги...
Всё. Комната свободна. Теперь можно и в ней перевернуть всё вверх дном, пока писатель, наслаждаясь, будет макать в сметану румяные горячие пышные оладушки, осторожно их отправлять в широко открываемый рот и с упоением запивать всё это холодным кисло-сладким вишнёвым компотом...
28.08.04 г. Кишинёв
История одной награды
В одном государстве жил-был певец. Он обладал не только прекрасным бархатным баритоном, но и был всенародно любим за прекрасные песни о своём народе. Но любви народа хватало только на любовь к певцу, а для своего непевца-Президента её совсем не оставалось. Поэтому всякий раз, когда певцу надо было выезжать на гастроли за пределы государства и антрепренёр певца приходил в канцелярию Президента за разрешением на поездку, он получал всегда один и тот же холодный ответ: "Ещё не вышел рожей!". Так продолжалось долгое время, пока народ совсем не взбунтовался: мол, как же так: и сам не поёт, и другому не даёт!
А тут к этому времени были уже проедены все иностранные кредиты, на горизонте чётко вырисовывались силуэты новых президентских выборов, совсем непатриотически настроенные соцэлементы настойчиво предвещали наступление времён, когда вместо песен всё время хочется есть и есть и когда вместо хлеба - одни зрелища да раздача наград типа "За гражданские заслуги", свидетельствующих о чёткой воинственно-мирной сути государства...
Кстати, о наградах. Их раздача уже шла полным ходом и проходила по обычной президентской схеме: в огромном парадном зале государства, повсюду увешанном государственными флагами, на (да простит меня Господь!) золочёном алтаре крупными изумрудными буквами по его верхней части было выведено: "Р а з д а ч а" и сам процесс напоминал раздачу супа в заводской столовке. Каждый молча подходил к раздаче, молча получал свою миску супа в виде красной коробочки и молча же удалялся на своё место, положенное ему по принятой здесь чёткой иерархии.
В один из таких моментов Президенту пришла в голову счастливая мысль: "Надо хорошо наградить известного и любимого народом певца! Самой высокой наградой! Пусть запоёт мне осанну! Народ поверит ему! Тогда выборы будут у меня в кармане!". Сказано-сделано! Да, но как же выпируэтить плавный переход от "Не вышел рожей" к высшему ордену? Вся придворная знать сбилась с ног, ища хоть какой-то выход. Нашла, конечно. Наступало 55-летие певца. Повод, правда, кисловатый, больше похожий на отправку нищей учительницы на пенсию, но... Больше зацепиться было решительно не за что. Поэтому объявили всенародно об Указе о награждении... Заготовили Орден... Но всё же... всё же... самих устроителей-предводителей это никак не вдохновляло... Надо было предпринять всё-таки нечто оригинальное. Дабы народ всё-таки удивить. Думали-думали и решили на оборотной стороне Ордена мелко-мелко выгравировать торжественную речь Президента по случаю награждения певца... Срочно написали речь. Главный Придворный срочно вызвал к себе самого лучшего в стране гравёра, всучил ему бумажку с речью и Орден и приказал: "Чтобы завтра к утру всё было готово! Да гляди, дурак, ничего не напутай, не то..." Гравёр молча рассовал по карманам всученное ему и удалился. По дороге к дому, он зашёл к своему куму, с которым они хорошо отметили день окончания войны в Эфиопии. Так как война в Эфиопии длилась долго, то на торжество по поводу её окончания кумовья потратили не один тост...
Когда, наконец, гравёр оказался дома, он тут же принялся исполнять приказание Главного Придворного: кое-как вытащил из одного кармана Орден, который оказался обсыпанным табаком от сигарет, а из второго кармана он с большим трудом выковырял смятую бумажку, на которой нетвёрдой рукой его кума было криво выведено: "От кума на память!". А чуть пониже этой надписи красовалась шикарно нарисованная огромная дуля... Всё это тщательно и было перенесено гравёром на президентский орден...
14.09.04. г. Кишинёв
Происшествия
(Из срочного сообщения сильно независимой газеты "Воронье крыло").
"Как сообщило сегодня информационное агенство ОГОГО, два происшествия случились недавно в нашем городе. Первое происшествие имело место на улице Чемоданной недалеко от её пересечения с проспектом Своего Рошки.
По свидетельству очевидцев, на переходившую эту небезызвестную улицу подслеповатую старушку набросились двое крепких постовых дорожной службы. Чудом почуявшая роковую опасность бабуля, явно не по-старчески сиганула было назад к тротуару, откуда она только-только отправилась на другую сторону улицы, да не тут-то было: дюжие полицейские метнулись ей наперерез, один из которых, кинувшись бабке в ноги, ловким приёмом уложил её на пыльный асфальт, а другой в момент натасканным способом применил к ней удушающий приём, после чего старушка застучала одной рукой об асфальт, давая знать нападавшим, что она попалась на болевой приём и просит дальше его не продолжать.
После этого стражи наших дорог быстро поставили присмиревшую бабульку на неслушавшиеся её ноги и крепко держа ту с обеих сторон за дрожащие руки, медленно препроводили, стараясь идти чётко в ногу, на другую сторону улицы. Почтительно откозыряв старушке, оба полицейских вернулись на свой важный государственный пост для дальнейшего продолжения несения службы. Бабушка присела тут же на тротуар и долго приходила в себя от всего произошедшего с ней, не отвечая на вопросы пешеходов и отказываясь от предлагаемой ими помощи свести её в ближайшую больницу. Наконец, примерно через полчаса, кое-как отдышавшись от всего случившегося, бабуля, шатаясь, с места происшествия удалилась.
Другой не менее странный случай произошёл с одиноким 95-летним пенсионером Р., проживающим по улице Свежеконфликтной в доме 14/2. Рано утром к нему заявились два работника Собеса, которые принялись тотчас звонить в дверь. Пенсионер был довольно глуховат и на звонки дверь не открыл. Не помогли и крики в дверь соседей, поднятых, как по тревоге, с постелей работниками Собеса. Видно, что пенсионер был ещё "не проснувши". Но пришедшие не растерялись и тут же вызвали на подмогу городской дежурный наряд службы по чрезвычайным ситуациям, который враз подорвал пиротехническим зарядом бронированную дверь пенсионера, чем обеспечил работникам Собеса непосредственный доступ к телу глухого старика, который действительно был ещё не проснувши.
Кое-как приведя в полное сознание начавшего было заикаться 95-летнего пенсионера, работники Собеса принарядили его в обнаруженные ими тут же в шкафу белые одежды и в присутствии ещё не совсем проснувшихся потревоженных соседей и подрывников его двери торжественно вручили дедушке сорок местных помятых тугриков, после чего с достоинством удалились.
Редакция газеты в сильном волнении обратилась за разъяснениями по поводу происшедшего к городским исполнительным властям. Вот что сообщил редакции временный поверенный в городских происшествиях г. Пэкалэ: "Ничего необыкновенного не произошло. Все государственные служащие действовали в полном соответсвии с постановлением властей города "Об обеспечении проявления заботы о пожилых людях в связи с наступающим Днём Пожилых Людей", согласно которому дорожной полиции предписывалось оказывать всемерную помощь пожилым людям при переходе ими улиц в неположенных местах, а работникам социальных служб доставлять и передавать лично в руки всем лицам, достигшим 95-летнего возраста, по 40 тугриков деньгами, чтобы, наконец-то, эти почтенные граждане смогли купить по одному кг лечебной мягкой докторской колбасы и наесться ею, почувствовав при этом искреннюю заботу о них избранных ими властей."
01.10.04 г Кишинёв
Проект заявления о вступлении страны в Европейский Союз
Проект
Заявление
о вступлении страны в Европейский Союз
_____________________________________________________
н а и м е н о в а н и е с т р а н ы
В Пречестную и Великую Обитель Пресвятого и Пречестного Владыки нашего, честного и славного преподобного Отца нашего, чудотворца Председателя Европейского Союза с братиею, почти царь и Великий Красный Президент челом бьёт.
О, увы, мне, грешному, горе мне, окаянному, ох мне, скверному, пытающемуся на таковую высоту дерзати. Бога ради, господа отцы наши, молю вас помиловати мя от наказания за такое дерзкое начинание. Я, брат ваш, недостоин вас, но по евангельскому словеси сотворите мя, яко единого от членов ваших. С тем же припадаю к честных ног ваших стопам и надеюсь на вашу европейскую милость. Бога ради, не судите за таковое начинание, ибо писано есть: ты - мне, а я - тебе. Ибо подобает вам, господам нашим, и нас, заблудших во тьме гордости и сени смертельной прелести тщеславия, ласкосердства и ласкосердия просвещати. И не мне, псу смердящему, вас учити, в чём нас, глупых, наказывати и в чём просвещати. Ибо сам всегда - в пьянстве и в блуде, в прелюбодействе и в сквернословии, в кровопийстве, в граблении, в хищении, в ненависти и во всяком злодействе. А у вас дома, среди вас, есть Великий Светильник, Великий Учитель - Капитал. И на его гроб вы всегда зрите, и от него всегда просвещаетесь. Потом же, великие подвижники его, великие ученики его, а ваши наставники - Великие Американцы - тоже присутствуют повседневно с вами и посему вы постоянно учитесь, наставляетесь, утверждаетесь, да и нас, убогих и нищих, благодатью этого просвещаете. Мы же, сирые, постоянно слыша об этом божественном житии, сильно возрадовалися и мечтаем обрести чрез наше скверное сердце и окаянную душу нашу при помощи Божия невоздержанию нашему Пристанище Спасения. Своё же любое обещание положим вам с радостью.
К сему вам, милостивцам нашим, я, окаянный, преклоняю главу свою и припадаю к честным стопам вашим, вашего же на сем благословения прося.
Президент
21.10.04.г. Кишинёв
Новости из мира инструкций
Один человек выпал с балкона 10-го этажа. На неожиданный и глухой стук о землю, создавший впечатление, будто с какого-то балкона выпал тюфяк, люд, находившийся от места события неподалёку, тут же пообернулся и заметил на земле распростёртое тело. Народ не замедлил тут же сбежаться к месту падения тела. К большому удивлению сбежавшихся пострадавший был жив, хотя и сильно разбился. Как водится, кто-то побежал вызывать "Скорую", а кто-то - оказывать первую помощь. Те, которые оказывали первую помощь, нашли возле тела депутатское удостоверение, видимо, случайно выпавшее из кармана пострадавшего, и вполне резонно сделали заключение, что г. депутат в данном доме на последнем, 10-м этаже, на балконе которого в голос рыдала полуодетая дама, никак не может проживать, ибо это не соответствует никакой практике нашего молодого демократического европейского государства. И поэтому те, которые оказывали первую помощь, не спешили отыскивать домашний адрес тела потерпевшего на предмет оповещения его возможной законной супруги о случившемся.
Пока оказывали первую помощь пострадавшему, примчалась "Скорая". Выскочивший из неё доктор мигом подбежал к пострадавшему и тут же схватился за голову. Сначала - за свою, т.к. не смог понять, как может быть жив человек, половина мозгов которого вытекла на сильно примятую упавшим телом мокрую землю. Потом - за голову депутата как за голову простого смертного. И принялся было вправлять в неё вытекшую наружу половину мозгов. Но когда те, которые оказывали до этого первую помощь, показали доктору найденное рядом с телом депутатское удостоверение, доктор немедленно перевёл своё внимание и прилагаемые усилия на заднюю часть тела пострадавшего, именуемую в народе как часть "Ж". В ответ на недоумённые и сильно возмущённые возгласы собравшихся доктор спокойно пояснил, что коль скоро г. депутат жив, то по инструкции в первую очередь следует восстанавливать его часть "Ж", т.к. именно в ней, в этой части, сосредоточены все центры, которые определяют депутатскую деятельность. Оставшиеся же мозги можно собрать в коробку и попозже.
09.01.2005 г.
Рецепт управления страной
Каков основной закон управления страной? - такой вопрос был задан на одной из пресс-конференций известнейшему экономисту, путешественнику и этнографу г. Чайникову.
- Ответ больше лежит в медицинской плоскости, - с грустью ответил большой учёный. - Если у руководителя страны, простите за натурализм и некоторую пошлость, от которой в данном конкретном ответе никуда не деться, как никуда не деться от современной высоко... Ну в общем, понятно, какой медицины.. Так вот, если у руководителя страны, не стоит, то в это же время в экономике страны всё стоит. И наоборот: если у руководителя стоит хорошо, то и в экономике страны всё движется.. Отсюда следует неизбежный научный вывод: руководителем надо избирать либо женщину (вспомните г. Маргарет Тэтчер из Великобретании), либо мужчину, которому предварительно надо пройти медицинское обследование... Иначе всегда весь бюджет страны будет формироваться за счёт таможни...
17.09.04. г
Детская логика
Трёхлетняя Маша протягивает своему дедушке детскую книжку и решительно требует: "Читай!" Дедушка куда-то задевал свои очки и пытается кое-как разобрать то, что написано в книге. "Зо-ло-то-й ... пер-сте-нёк ..., - с большим трудом разбирая слова по слогам, читает дедушка. Бы-ло ... у... ма-мы.... три..." Маша в нетерпении вырывает книжку из рук дедушки: "Дай сюда! Я вижу, ты букв совсем не знаешь!"
21.08.2004 г.
Голосование:
Суммарный балл: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Проголосовало пользователей: 0
Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0
Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
Вас также могут заинтересовать работы:
Отзывы:
Нет отзывов
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
 Трибуна сайта
Трибуна сайта Наш рупор
Наш рупор Радио & Чат
Радио & Чат







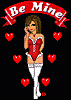

 Категории
Категории Работы на продажу
Работы на продажу